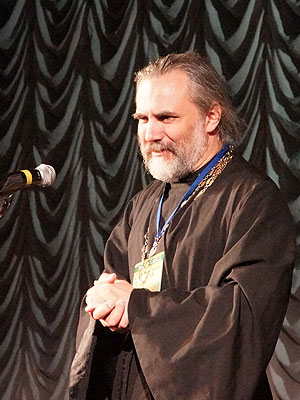Вообразите себе мужчину лет сорока пяти, невысокого, прямого брюнета, с лицом, не лишенным благообразия, украшенным окладистою бородою и густыми бровями, что придают ему выражение несколько властное и надменное.
Представьте, что женат он третьим браком, от первого имеет взрослую дочь, с коей видится не реже двух раз в год, а на работу ходит в районную поликлинику, где в собственном кабинете терпеливо принимает страждущий человекопоток с девяти до двух в понедельник и среду, и с двух до семи во вторник и четверг.
Добавьте сюда извинительную слабость к украинскому пиву, отечественному хоккею и крепким американским детективам.
Если вам удалось все вышеперечисленное вообразить, представить и добавить — будьте уверены, что перед вашим мысленным взором предстал Иван Гаврилыч Пупышев собственной персоной.
Да, таков он и был.
Присовокупите сюда и тот немаловажный факт, что взглядов наш герой придерживался самых что ни на есть атеистических.
Люди старшего поколения еще помнят те времена, когда живого атеиста можно было встретить буквально на улице, да притом никто бы тому не подивился — настолько привычным казалось такое явление.
Именно в это время и жил Иван Гаврилыч.
Атеистом он был матерым, закоренелым и упертым.
На прямой вопрос: “есть ли Бог?” он бы не стал, поверьте, юлить в духе нынешних псевдоатеистических рудиментов с их вечными “смотря какого бога вы имеете в виду” или “в каком-то смысле, может быть, и не так чтобы очень”. О, Иван Гаврилыч ответствовал бы прямо: “Бога нет!”, причем сделал бы это с убежденностью естествоиспытателя, доподлинно и самолично установившего сей факт. Более того, касаясь упомянутой темы, господин Пупышев непременно считал нужным добавить пару нелицеприятных слов в адрес служителей Церкви, испокон веков обманывающих простой народ, высасывая из того последние крохи, дурача, воруя и обирая.
Попов и прочих “церковников” Иван Гаврилыч на дух не переносил, так что даже если жена, щелкая телеканалами, попадала на какого-нибудь священнослужителя, к примеру, дающего интервью, он немедленно требовал переключить программу. Из всего, хоть отдаленно связанного с Церковью, Иван Гаврилыч любил лишь анекдоты “про попов”, их он частенько рассказывал, к месту и не к месту.
Но довольно об этом. Цель нашей истории — поведать о том, как атеист Пупышев умер, посему ограничимся лишь фактами, имеющими к делу самое непосредственное отношение.
Виной всему была черная кошка. В то роковое майское утро Пупышев, по обыкновению, шел на работу, и вдруг дорогу ему перебежала она самая. Гладкая, гибкая, длинноногая, — словом, самого зловещего вида. Как и все настоящие атеисты, Иван Гаврилыч был страшно суеверен, поэтому невольно замедлил шаг. Помянув про себя недобрым словом оригиналов-котоводов, которые из всего разнообразия кошачьих окрасов с маниакальным упорством выбирают черный цвет, он подумал, что, свернув здесь резко налево, можно, пожалуй, даже быстрее выйти к остановке… но тут боковым зрением заметил, что проклятая кошка, будто читая его мысли, повернулась и перебежала путь слева.
Мысленно выругавшись, Иван Гаврилыч проследил взглядом за вредным животным и, к своему изумлению, стал свидетелем необычайного поведения: отбежав чуть по левой стороне, под цветущей черемухой, кошка снова повернулась и вторично перебежала через тротуар и дорогу, отрезав таким образом, и путь назад. Но и этим дело не кончилось — на той стороне улицы она еще раз проделала тот же трюк — так Иван Гаврилыч оказался в квадрате перебежек черной кошки.
Такое происшествие его неприятно удивило — ни о чем подобном ему не доводилось слышать, более того, в зловещем стечении обстоятельств на миг почудилось проявление чьей-то разумной воли… Отмахнувшись от неуютных мыслей, доктор Пупышев в сердцах плюнул (три раза через левое плечо) и решительно продолжил путь вперед, не думая о последствиях.
Однако последствия не заставили себя ждать.
А случилось вот что: когда, уже после работы, Иван Гаврилыч, закупив продуктов (а также бутылочку любимого пива и газету “Спорт-Экспресс”), выходил из магазина, к нему подошел сильно подвыпивший субъект с оплывшим от плохой работы печени лицом и промычал:
— Б-батюшка… м-мне бы это… поисповедаться…
Поперву Иван Гаврилыч даже не сообразил, о чем речь, настолько все оказалось неожиданным. Пьяница тем временем продолжал, обильно украшая речи сквернословием:
— Надо… Понимаешь, отец, не могу так больше… надо мне… исповедуй, а?
— Вы ошиблись, я не священник, — необычайная кротость ответа объяснялась тем изумлением, в которое повергли Пупышева сложившиеся обстоятельства.
— Ну че те, жалко? — возмутился собеседник, дыша перегаром. — Я че, не человек, что ли?
— Не знаю, человек вы или нет, но я уж точно не священник! — огрызнулся Пупышев, и решительно зашагал прочь. Эти слова показались ему весьма удачным ответом, жаль, впечатление смазали посланные в спину словесные излишества.
Домой Иван Гаврилыч явился в состоянии легкой задумчивости.
— Представляешь, сегодня какая-то пьянь меня за попа приняла! — пожаловался он жене за обедом.
Госпожа Пупышева от этого известия пришла в такой неописуемый восторг, что едва не подавилась котлеткою, и еще минуты три содрогалась от взрывов гомерического хохота. Иван Гаврилыч ощутил при этом сильное неудовольствие, но счел за лучшее не показывать виду, он вообще, к слову сказать, не любил внешне проявлять чувства без крайней на то необходимости.
Отсмеявшись, Ирина Сергеевна — а именно так звали супругу нашего героя, — заметила, что причина, должно быть, в роскошной бороде Ивана Гаврилыча.
— Скажешь тоже, — буркнул тот, но вечером, в ванной, стоя перед зеркалом, внимательно осмотрел именно эту часть лица.
Надо сказать, что бороду наш герой носил с тех самых пор, как она принялась расти. Тому была веская причина, а именно, некоторый дефект нижней части лица, по какому поводу Ивану Гаврилычу даже в армии дозволялось не бриться. За четверть века он сжился с бородой, она стала частью его личности, пожалуй, наш доктор как никто другой понял бы древних русичей, по законам которых за вырванный в драке клок бороды полагалась большая вира, чем за отрубленный палец. Конечно, за минувшие годы пластическая хирургия стала много доступнее, и Пупышев почти наверняка знал, что злосчастный дефект, который вызывал столько комплексов в юности, ныне без труда можно исправить…
Но с какой стати?
Почему из-за какого-то пьяницы он должен отказаться от собственной внешности? Что за абсурд? Неужто одни попы с бородами ходят? Вон, Дарвин с бородой был. И дед Мороз… И… кто-то из правительства тоже… А уж среди светил медицины сколько бородатых! Сеченов! Боткин! Пастер! Серебровский! Павлов! Эрлих! Кох! Фрейд! Да что говорить — Маркс, Энгельс, Ленин — и те с бородами ходили, да еще с какими! Небось, к Ильичу на улице пьянь не цеплялась и не канючила: “б-батюшка, б-батюшка…”.
Волевым усилием Иван Гаврилыч заставил себя забыть о неприятном инциденте и связанных с ним размышлениях. Идиотов в мире много, немудрено, если одному из них в проходящем мимо враче померещится священник. А кошка… ну, кто их знает, может, по весне они всегда так делают, метят территорию или еще что-нибудь… А те анекдоты вчерашние… нет, это совсем тут ни при чем.
Таким образом, искусство игнорировать или выгодно перетолковывать неудобные факты, столь виртуозно развитое у всех атеистов, в очередной раз пришло нашему герою на помощь.
Увы, ненадолго. Может быть, Ивану Гаврилычу удалось забыть о неприятностях, но вот неприятности не забыли о нем.
С того раза не прошло и месяца. Усталый Пупышев возвращался со смены и, покинув бетонную утробу метрополитена, стоял рядом с облезлой остановкой, поджидая автобус. Приблизиться к остановке, как и остальным людям, ему мешала элементарная брезгливость — на скамейке, усыпанный тополиным пухом, сидел бомж, источая немыслимое зловоние.
Дабы не оскорблять взора своего лицезрением столь неаппетитной картины, Иван Гаврилыч стал к нему спиной и погрузился в собственные мысли о вещах, не имеющих прямого отношения к нашей истории. Так он погружался, покуда не вывел его из задумчивости сиплый оклик сзади:
— Бать, а бать!
Иван Гаврилыч совершенно машинально обернулся, чтобы поглядеть, к кому это так диковинно обращаются, и тут же вздрогнул: бомж глядел прямо на него!
— Э… ваше преосвященство… — просипел тот, — подкинь десяточку, а?
Пупышев лишился дара речи. Только и хватало его сил, чтобы стоять столпом, ошалело моргая.
— Ну, не жмись, бать… — продолжал бомж, покачиваясь. — Бог велел делиться…
Не проронив ни слова, Иван Гаврилыч попятился, потом зашагал все стремительнее, прочь от остановки, а вослед ему неслись хриплые проклятья:
— Уу… церковник драный… десятки пожалел! Испокон веков простой народ обирают… а как самому дать, так зажлобился!
Ивану Гаврилычу казалось, будто все люди с остановки смотрят ему вослед, эти взгляды жгли спину, и он не решился пользоваться транспортом, а побрел дворами.
Войдя в квартиру, скинув плащ и разувшись, Пупышев немедленно заперся в ванной. В хмуром молчании разглядывал он свое лицо, и в анфас, и в профиль, и забирал бороду в кулак, прикидывая, каково выйдет без нее…
Мужчины, не носившие бороды, либо отпускавшие ее нерегулярно, никогда не поймут, как немыслимо тяжело расстаться с этим украшением лица тому, кто свыкся с ним за многие годы. Это все равно, как если бы заставить приличного человека всюду ходить без штанов, в одном исподнем — и на людях, и в транспорте, и на работе… Кошмар!
Однако Иван Гаврилыч пребывал в столь смятенном состоянии духа, что готов был и на такой отчаянный шаг. Вспомнив поговорку: “что у трезвого на уме, то у пьяного на языке”, он с ужасом понял, что эти два пьяницы, вероятно, лишь озвучили то, о чем думали многие незнакомые или малознакомые с ним люди! Его, убежденного атеиста, принимали за попа! Да еще при столь циничных обстоятельствах!
Он был готов сбрить бороду немедленно, если бы не один нюанс.
Даже среди православных не все священники носят бороду. А если взять католиков, так их патеры и вовсе бритые ходят принципиально. И что же? Пойти на чудовищную жертву, выбросить кучу денег на операцию, не один месяц лгать о причинах жене, дочке, коллегам и друзьям, — только для того, чтобы очередная пьянь опять прицепилась: “патер… ксендз, дай десятку!”.
Иван Гаврилыч сжал кулаки и плюнул в раковину с досады.
Он почувствовал себя персонажем чьей-то шутки. Почти осязаемо ощутил, как кто-то улыбается, глядя на него из незримых далей. Кто-то, кто знает все происходящее столь же хорошо, что и Пупышев… Кто-то, кто, по-видимому, находит все это забавным… Иван Гаврилыч судорожно вздохнул и отвернулся от зеркала. Чувство глубокой личной обиды к отрицаемому Богу, знакомое каждому убежденному атеисту, больно кольнуло его “несуществующую” душу.
Как бы то ни было, но анекдоты “про попов” Иван Гаврилыч с этого дня рассказывать перестал, и даже когда кто-то другой в его присутствии рассказывал, уже не смеялся. Хотя супруга то и дело подкалывала его, называя то “моим попиком”, то “святым отцом”…
Стал он задумчив более обычного, и оттого даже несколько рассеян. На улице старался появляться как можно реже, ибо не в силах был избавиться от назойливых мыслей: принимают ли окружающие его за попа? Какую бы мину состроить, чтобы не принимали? И — как бы повел себя настоящий поп на его месте?
Стоит ли говорить, что бомжей и лиц, находящихся в подпитии, доктор обходил теперь за версту?
Не помогло.
В теплый сентябрьский полдень, шурша опавшими на асфальт листьями, к нему подошел интеллигентного вида мужчина. Не пьяница, и не бомж — иначе Иван Гаврилыч не попался бы! — вполне приличный с виду человек, хоть и одетый бедно.
— Добрый день, простите покорнейше за беспокойство…
Пришлось остановиться. Пупышев минуты две недоуменно вслушивался в обволакивающую речь незнакомца, который назвался архитектором и беженцем из Казахстана, зачем-то перечислил основные проекты, над которыми работал, пожаловался на социальные и экономические потрясения, жизненные невзгоды, и, наконец, перешел к главному:
— Батюшка, неудобно просить, но крайне нуждаюсь…
— Я вам не батюшка! — взвился Иван Гаврилыч, заслышав ненавистное слово.
— Да-да. Конечно, — послушно кивнул собеседник и коснулся рукою своей груди. — Поверьте, я никогда не думал, что мне придется вот так побираться, жить на вокзале… но я хотя бы слежу за собой… каждый день привожу в порядок, не хочется опускаться, понимаете… Мне бы до вторника продержаться, а там у меня назначено собеседование…
Дико сверкая глазами, доктор запустил руку во внутренний карман пиджака и, не глядя, вытащил сторублевую купюру. За всю жизнь он не подал попрошайкам и десятой части этой суммы. Лицо архитектора-беженца заметно оживилось, тонкие пальцы потянулись за купюрой, однако Пупышев не спешил с ней расстаться.
— Скажи-ка мне, голубчик, — вкрадчиво заговорил Иван Гаврилыч, не сводя с попрошайки пронзительного взгляда, — что именно в моем облике навело тебя на мысль, будто я — священник?
— Ну… — архитектор пожал плечами. — Лицо у вас особенное. Одухотворенное. У нас на такие вещи чутье. Спасибо, батюшка! Век не забуду вашей доброты…
С этими словами казахский беженец подозрительно ловко извлек из ослабевшей ладони Пупышева купюру и бойко зашагал вдаль.
А Иван Гаврилыч стоял посреди дороги с изменившемся лицом и глядел в светлое небо, обрамленное желтеющими кронами тополей. Люди проходили мимо, удивленно оглядывались, но ничто из окружающего мира в этот момент не могло его поколебать. Парадоксальная связь между явлениями предельно разных масштабов открылась ему во всей простоте и неотвратимости…
Наконец он склонился, помрачнев. Решение было принято.
Тем же вечером, скрипя зубами, Иван Гаврилыч дошел до ближайшей церкви, благо, искать ее не пришлось — золотые купола уже не один год мозолили глаза всякий раз, когда он выходил на балкон покурить.
Внутри оказалось темно, пахло деревом и душистым дымом. Округлые линии сводов, позолота подсвечников, сдержанные краски икон и фресок раздражали намного меньше, чем доктор полагал до прихода сюда. Можно даже сказать, совсем не раздражали. И все равно Иван Гаврилыч чувствовал себя весьма неуютно в этом просторном зале со множеством строгих лиц на стенах, которые, казалось, рассматривали его не менее внимательно, чем он их.
К нему подошла сутулая женщина в платке и зеленом халате, чтобы сообщить:
— Батюшка сейчас придет.
На ключевом слове Иван Гаврилыч вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Внимание к своей персоне несколько насторожило. Уж не принимают ли его и здесь за священника?
Минут через пять из стены с иконами впереди открылась дверца, откуда вышел молодой священник в особой, черной одежде и с большим крестом на груди. Сутулая женщина, чистившая подсвечники, что-то буркнула ему, и поп направился к посетителю.
— Добрый вечер. Что вы хотели?
У священника был очень усталый вид и при этом на редкость живые глаза. Иван Гаврилыч подумал, что “батюшка” ему, пожалуй, в сыновья годится. А борода поповская, кстати, оказалась весьма куцей.
— Здравствуйте, — слова Пупышеву давались здесь на удивление тяжело. — Передайте Ему, что я все понял. Не надо больше.
— Простите, кому передать?
— Ему! — Иван Гаврилыч сдержанно кивнул в сторону иконы. — Я понял. Кошка была ни при чем. Только затравка. Анекдоты. Да. Он не любит, когда про Него анекдоты… хотя я же ведь несерьезно… так, ребячьи забавы… А Он, значит, мою жизнь анекдотом решил сделать… Это… Да… Скажите Ему, что я больше не буду… Пожалуйста, хватит…
— То есть, вы хотите поисповедаться? — заключил священник, и не дав Ивану Гаврилычу возразить, продолжил: — А вы крещены?
— Нет, — Пупышев удивился вопросу. — Я атеист.
— В самом деле? — пришла очередь удивляться священнику. — Не похоже.
Эти слова задели Ивана Гаврилыча сильнее, чем он готов был признать.
Во время вышеописанных злоключений незаметно для себя наш герой перешел с позиции атеизма упертого (“Бога нет, потому что я так сказал”) к позиции атеизма умеренного (“я Тебя не трогаю, и Ты меня не трогай”) и вдруг растерялся, когда получил просимое. Едва он вышел из церкви, тотчас ощутил, что никто больше его за священника не примет. Это знание засело очень глубоко, подобно знанию о том, что у человека пять пальцев на руке, один нос и два глаза. И даже супруга внезапно перестала подшучивать над ним — вот уж действительно фантастика! Чудо, как оно есть!
Но ни радости, ни облегчения не было. Напротив. Тот факт, что атеистическое мировоззрение, ставя человеческую жизнь (прежде всего, собственную) на пьедестал высшей ценности, одновременно делает ее чудовищно бессмысленной, придавил разум Ивана Гаврилыча могильной плитой, и черным ядом отравил мысли. Собственная жизнь предстала однообразной чехардой привычных повинностей и пресных развлечений, слетевшим с обода колесом, несущимся под откос, в болотную жижу, или просто сырую, червивую землю, которая в положенный срок равнодушно поглотит кусок разлагающегося мяса — все, что останется от него после смерти…
И одновременно, рядом, только шагни — иная реальность, несоизмеримо величайшая в своей чарующей осмысленности и преизбытке подлинной жизни…
Иван Гаврилыч стал замкнут. Много думал, читал книги, каковых прежде в его доме не появлялось, все чаще заходил в церквушку, пару раз беседовал с отцом Мефодием, и снова думал, и сидел на кухне ночами, “жег свет”, как ворчала Ирина Сергеевна… И, по мере этого, с каждым часом атеист Пупышев все больше хирел и чах…
Пока в один прекрасный день не умер.
Это был действительно прекрасный ноябрьский день, какие редко выпадают поздней осенью. По небу плыли высокие облака, воробьи чирикали на крыше церкви, тополя тянули вверх голые ветви, предвкушая таинство весеннего воскресения…
В краткой проповеди перед крещением отец Мефодий упомянул евангельские слова об ангелах, радующихся каждой спасенной душе, подчеркнув, что поэтому каждое обращение, обретение Бога есть событие поистине космического масштаба…
И вот здесь, прямо у святой купели, атеист Пупышев умер. Окончательно и бесповоротно. Из купели вышел раб Божий Иоанн, но это уже, как говорится, совсем другая история…
Автор: Юрий МАКСИМОВ


 В Театре Народной Драмы в Иркутске состоялось торжественное открытие Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России». Теплым приветствием, хлебом-солью и яркими выступлениями встретил участников фестиваля коллектив театра. С обращениями и приветствия выступили президент фестиваля «Семья России» Галина Григорьевна Алексеева, члены жюри, представители Иркутской епархии.
В Театре Народной Драмы в Иркутске состоялось торжественное открытие Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России». Теплым приветствием, хлебом-солью и яркими выступлениями встретил участников фестиваля коллектив театра. С обращениями и приветствия выступили президент фестиваля «Семья России» Галина Григорьевна Алексеева, члены жюри, представители Иркутской епархии.