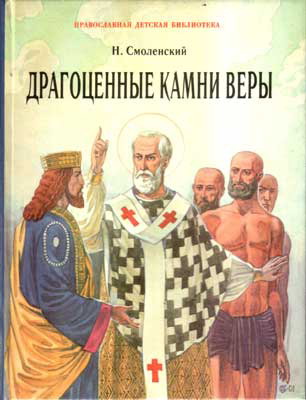|
Н.Смоленский ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ВЕРЫ Рассказы из жизни святых Редакторы А. Кобец, А. Горюнова Художник О. Пархаев Художественный редактор И. Федорова Корректор О. Подобедова |
ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Море ревело и бушевало.
Погода с каждым часом становилась все хуже, огромные черные тучи обложили со всех сторон небо, ветер рвал паруса, громадные, гигантские волны, покрытые седой пеной, вздымались кругом.
Отчаяние охватило людей, плывших на небольшом корабле в Италию, в Рим. Шторм настиг их в открытом море, и вот уже четырнадцать дней носится корабль по бушующим водам, по воле волн,— управлять им нет никакой возможности, сбились с пути. На палубе стояло несколько человек матросов, капитан корабля, сотник и человек десять узников, которых везли в Рим на суд. Все они были скованы, кроме одного. То был высокий старец, с седой бородой, густыми нависшими бровями, которые придавали его лицу суровый вид; во всей фигуре старца было что-то вдохновенное, а глаза — глубокие, строгие, прекрасные светились и горели. Одет он был в длинный темный плащ.
Это был апостол Павел.
Среди всеобщей паники и отчаяния он один оставался спокоен и молчалив. Кругом слышались вопли и стоны, люди потеряли надежду на спасение Близость смерти была очевидна.
Вдруг Павел, встав посреди, сказал:
— Мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано: нам должно быть выброшенными — к какому-нибудь острову.
Спокойный, полный веры голос апостола, его простая, вдохновенная речь произвели сильное впечатление. Затихли вопли и стоны, пробудилась надежда в истомленных душах.
Наступил вечер.
Измеряя глубину, корабельщики заметили, что она стала меньше. Через некоторое время измерили снова — глубина заметно уменьшилась. Было очевидно, что близко земля.
Люди оживились.
Корабль несся в прежнем направлении, ветер начал спадать. Наконец показалась земля.
Стоны и вопли сменились криками радости. Люди плакали, обнимая друг друга.
Вдруг сильный толчок — и корабль остановился. Оказалось, что попали на мель.
Нос корабля глубоко врезался в песок и бушующие волны стали с силой ударяться о корму, разбивая ее на щепы.
Оставаться на корабле нельзя было и думать: через несколько часов корабль будет разбит на мелкие части.
До берега было недалеко, и сотник тотчас велел тем, кто хорошо плавает, броситься в воду и плыть к земле, прочим же — спасаться на досках или на чем другом.
Вскоре корабль опустел.
К вечеру буря стала стихать, тучи рассеялись, показалось чистое небо со звездами.
На самом берегу, в нескольких шагах от кипящих, еще не улегшихся волн, ярко горел костер, а кругом него сидели люди, выброшенные на берег.То были люди с римского корабля, на котором везли апостола Павла в Рим. Всем удалось спастись, как предсказал апостол, никто не погиб. Корабль выбросило на мель у острова Мелиты.
Апостол сидел у костра, окруженный узниками-христианами, и тихо беседовал с ними.
Сотник, капитан корабля и другие римляне сидели тут же, недалеко и также беседовали.
— Просто не верится, что спаслись! — говорил капитан.— В жизни своей не видел и не испытывал такой бури.
— И ведь все, все до одного спаслись! — говорил сотник. — Двести семьдесят шесть человек.
Огонь догорал. Пламя бледнело.
Апостол поднялся с земли и подошел к костру.
Недалеко лежала груда хвороста, принесенного из соседнего леса. Павел подошел к груде и стал доставать сухие ветки.
Высоко подняв руки с хворостом, Павел подходил к костру.
Вдруг громкий крик со стороны, где сидели христиане, заставил всех оглянуться туда.
Апостол также остановился.
— Смотрите! Смотрите! — в ужасе кричал молодой узник, указывая на Павла.
Взоры устремились на апостола… и все онемели от ужаса: вокруг руки апостола обвилась ядовитая змея-ехидна, один укус которой был смертелен.
Но апостол спокойно подошел к костру и сбросил ехидну в огонь.
— Он умрет, умрет! — слышалось кругом; верно человек сей большой грешник, что судьба, только что пощадив его жизнь на море, снова шлет ему смерть! Яд ехидны действует быстро, уж верно, началось воспаление на месте укуса!.. Все окружили апостола, каждый старался посмотреть на страшный укус.
Но что это? Люди в изумлении отступали назад… На руке Павла не было ни малейшего следа от укуса ехидны…
— Се даю вам власть,— тихо повторил апостол слова Спасителя,— наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и никто не повредит вам (Лк.10;19).
В Ефесском храме шла служба, Божественная литургия.
Был праздник, и храм был полон молящихся…
Епископ Тимофей, ученик апостола Павла, совершал богослужение.
Христиане Ефеса, где число верующих росло с каждым днем, наслаждались полным миром и спокойствием. Страшные гонения, которые происходили по приказанию Нерона в Риме, еще не достигли церквей Малой Азии, и здесь против христиан не было преследований.
По окончании службы епископ Тимофей взошел на кафедру и начал говорить поучение.
В храме царила полная тишина, нарушаемая лишь голосом проповедника…
Вдруг входная дверь отворилась, и на пороге показался отряд воинов. Раздался лязг оружия. Не прошло и нескольких минут, как весь храм был оцеплен солдатами.
Офицер гвардии подошел к епископу и, сведя его с кафедры, громко сказал, передавая длинный свиток:
— Император Нерон шлет тебе этот указ. Прочти!..
Тимофей развернул свиток и стал читать вслух. В указе Нерон приказывал епископу Ефеса Тимофею и всем христианам этого города выдать беглецов — христиан, скрывшихся из Рима от преследований императора. Нерон требовал исполнить свой приказ и, в случае неповиновения, угрожал казнями.
— Нет,— спокойно и твердо сказал Тимофей, окончив чтение,— мы не можем исполнить его повеление. Скажи императору, что мы скорей готовы умереть все до одного, чем выдать наших братьев.
И все присутствовавшие громко ответили:
— Аминь!..
Офицер стал убеждать епископа изменить свое решение, говоря, что долг каждого человека, будь он христианин или язычник, повиноваться закону,— но Тимофей оставался непоколебим.
— Я знаю,— говорил он,— что послушание и повиновение — наш долг. Но мы должны подчиняться лишь законным требованиям, которые не противны нашей совести и заповедям Христа, а император требует от нас поступка бесчестного, на который мы не можем согласиться…
Долго еще пытался офицер склонить епископа, но все его старания оставались напрасными.
— Тогда мне придется прибегнуть к мерам строгости! — вскричал раздраженный офицер.
— Делай, что велит тебе твой долг,— спокойно ответил епископ. И офицер отдал страшный приказ… Солдаты обнажили свои сабли, засверкало оружие и потекла кровь.
Христиане без ропота падали под ударами, мужчины бросались вперед, стараясь защитить женщин и детей… Крики, вопли, плач наполнили храм.
Епископ стоял тут же; за ним совсем близко находилась небольшая дверь, чрез которую он мог спастись… Но Тимофей прошел вперед, где была самая резня… и обратился к офицеру, прося его на минуту прекратить схватку. Тот, думая, что Тимофей хочет исполнить его требование, приказал солдатам остановиться.
Тогда епископ встал впереди верующих и спокойно сказал:
— Прежде, чем рассеивать стадо,— порази пастыря!..
Глубокая тишина царила кругом. Взоры всех устремились на Тимофея, безоружного, стоявшего перед разъяренными воинами.
Смущение отразилось на лице офицера; он невольно опустил глаза перед устремленным на него кротким взором Тимофея и, сделав знак солдатам, вместе с ними молча вышел из храма.
После вознесения Спасителя на небо, Его ученики, апостолы, разошлись по разным странам для проповеди святого Евангелия.
В Иерусалиме остался лишь апостол Иаков, брат Господень: он был епископом Иерусалимской церкви.
Народ с большим уважением относился к святому апостолу и прозвал его праведным.
Но книжники и фарисеи с недовольством смотрели, как росла и крепла в Иерусалиме вера христианская под мудрым управлением апостола: они решили погубить его.
Наступил праздник пасхи иудейской и в Иерусалиме собралось множество народа.
В самый день праздника фарисеи и книжники пришли к апостолу и сказали:
— Праведный, скажи народу проповедь! Он тебе верит, ибо всем известно, что ты беспристрастен и справедлив.
И они возвели Иакова на кровлю храма.
— Отсюда будет всем слышно слово твое, — говорили книжники и фарисеи.
Когда собралось вокруг храма множество иудеев, фарисеи громко спросили апостола:
— Праведный! Тебе все должны верить! Объясни же сему народу, какое понятие должен он иметь об Иисусе распятом? Апостол громко ответил:
— Что спрашиваете меня об Иисусе, Сыне Божием, Который добровольно пострадал и умер, и был погребен, и воскрес в третий день? Он ныне восседит на небесах одесную Бога Отца и опять придет на облаках небесных судить живых и мертвых…
Тогда фарисеи с гневом вскричали:
«Он вводит народ в заблуждение! Смерть ему!» С этими словами они бросились к апостолу и столкнули его с кровли храма. Возбужденный фарисеямии народ стал бросать в Иакова камнями.
Апостол сильно расшибся при падении, но сознание ненадолго вернулось к нему. Он собрал последние силы, встал на колени и воскликнул:
— Господи! Боже! Прости им, ибо не ведают, что творят!
В эту минуту один из иудеев тяжелым железным колом ударил апостола по голове и рассек ему череп…
Евангелист Иоанн только что вернулся в Ефес из дальнего путешествия. Много селений и городов исходил он, проповедуя Слово Божие, обращая ко Христу бродивших во тьме язычества.
Вечер спускался на землю, когда апостол прибыл в Ефес; тотчас проследовал он в храм, где шла вечерняя служба. Сам епископ Ефесский присутствовал на богослужении.
Велика была радость христиан, когда они увидели святого апостола. Тесной толпой окружили они апостола после церковной службы. Просили благословения и молитв, советов и руководства, наперебой рассказывая о жизни всей христианской общины. И, утомленный долгим и тяжелым путешествием, святой апостол внимательно выслушивал всех, каждому давал просимое.
— А где же тот юноша, которого я поручил тебе? — вдруг обратился апостол к епископу.
Епископ поник головой и глубоко вздохнул. Уезжая из Ефеса, апостол поручил епископу одного юношу, еще непросвещенного крещением, к которому подготовлял его сам апостол. Епископ наставлял юношу, и тот скоро сделался достойным принятия христианства. Епископ окрестил юношу и, думая, что он уже вполне утвердился в учении и жизни христианской, перестал заботливо следить за ним. Надежды епископа были напрасны. Пылкий юноша попал под влияние злых людей, пристрастился к пьянству, кутежам, картежной игре; запутался в долгах, начал красть, бежал из города, сделался разбойником и скоро даже атаманом разбойничьей шайки.
Все это с горечью рассказал апостолу Иоанну епископ.
Опечаленная паства сострадала этому горю.
Тяжелое молчание водворилось в храме.
— Приведите мне коня, я поеду разыскивать несчастного, — прервал, наконец, тягостное молчание апостол Иоанн.
Через час апостол уже выезжал из городских ворот.
Солнце взошло. Его живительные лучи весело осветили землю. Всюду закипела жизнь. Пробудилось и далекое глухое ущелье, затерявшееся среди высоких скалистых гор, верстах в семидесяти от Ефеса. Здесь, в большой пещере, располагалось жилище разбойников, разбои которых наводили ужас на все окрестное население.
По узенькой тропинке, прихотливо извивавшейся по обрыву, один за другим подъезжали и подходили разбойники, возвращавшиеся на отдых после ночных «трудов». Атаман принимал их, осматривал добычу, делал распоряжения о захваченных в плен.
Вдруг молодое спокойное лицо атамана исказилось мукой страдания. Точно ужаленный, вздрогнул он, при взгляде на одного пленника, вздрогнул, закричал и… бросился бежать. Старец-пленник побежал за ним.
Пленником был апостол Иоанн. Почти неделю, день и ночь, странствовал он по горам, в лесах, пренебрегая дождем, стужей и усталостью, разыскивая несчастного атамана разбойников. Наконец он попал в руки разбойников и просил отвести его к атаману. Разбойники исполнили странную просьбу старца.
— Остановись,— кричал апостол.— Зачем бежишь, дитя мое? Зачем заставляешь бежать меня, старца? Остановись, не бойся, еще не потеряна надежда на спасение. Я отвечаю пред Богом за тебя.
Юноша остановился, зарыдал и бросился к ногам апостола любви.
В Тримифунте был некогда архиепископом преподобный Спиридон. Он был бессребреник и вел жизнь, угодную Богу. Часто приходили к нему люди за советом и помощью, и для всех Спиридон находил слово ласки и утешения, ко всем приходил на помощь.
Жил в Тримифунте и богатый купец, который вел обширную торговлю. Случалось, что ему нужны были деньги для больших торговых оборотов и он брал в долг у Спиридона. Когда же он приносил деньги обратно, Спиридон никогда не пересчитывал их и просил купца лично положить деньги в ковчег, из которого он брал. Много раз купец занимал таким образом золото у Спиридона и всякий раз добросовестно возвращал ему долг. Дела торговли шли хорошо и купец сильно разбогател.
Но случилось однажды, что, принеся долг Спиридону, купец не удержался от соблазна и не положил золота в ковчег, а утаил его у себя, обманув Спиридона. Вскоре после этого случая начались неудачи у купца. Он быстро потерял свое состояние и даже впал в крайнюю бедность.
В большой нужде пришел купец к Спиридону и просил его оказать ему помощь.
— Возьми из ковчега,— сказал Спиридон.
Купец направился в келью, где стоял ковчег, но увы! В ковчеге не оказалось ни одной златницы.
В смущении вернулся купец к Спиридону и сообщил ему, что ковчег пуст.
— Кроме тебя,— спокойно отвечал Спиридон,— никто не открывал ковчега: если бы ты положил тогда деньги, они были бы теперь там и ты мог бы их взять. Роптать не на кого. Ты сам виноват. Пораженный купец со слезами стыда и раскаяния пал к ногам старца и просил прощения.
— Иди с миром,— сказал ему Спиридон,— к несчастью, я не могу ничем помочь тебе: у меня больше нет ни одной златницы. Да послужит тебе на пользу этот горестный случай: остерегайся впредь осквернять совесть свою обманом!
В нескольких верстах от Рима в лесу стояла небольшая лачужка, в которой жили два брата — Косьма и Дамиан.
Родом римляне, воспитанные в христианстве, они роздали все имущество свое нищим. Посвятив себя Богу, братья оставили шумный Рим и удалились в уединенное место.
Но недолго оставались Косьма и Дамиан в уединении: вскоре разнеслась весть, что они обладают даром молитвы и что по молитве их Господь исцеляет всякие недуги.
И вот, каждый день с самого раннего утра стали стекаться к убогой лачужке больные и недужные; приходили и христиане, и иудеи, и язычники, и все, по молитве Косьмы и Дамиана, получали исцеление.
Было утро.
Жаркие лучи южного солнца невыносимым зноем палили землю.
У порога хижины стоял человек среднего роста, в глинной белой одежде.
Это был брат Дамиан.
Перед ним, на коленях, стоял молодой римлянин; по богатой одежде юноши можно было узнать, что он принадлежал к знатному роду.
— Исцели меня! — слышался взволнованный, полный горести и отчаяния голос юноши.— Посмотри: я так молод! Неужели дивное, яркое солнце навеки померкло для меня, неужели больше никогда я не увижу зелени деревьев, лазурного неба! Неужели я навсегда ослеп!
И, выговорив это страшное слово, юноша зарыдал. Лицо Дамиана было строго и печально.— Я жалею тебя, юноша,— ответил он,— но не я могу исцелить тебя. От тебя самого зависит получить снова зрение.
— Как… от меня? — с удивлением спросил слепой.
— Да,— твердо продолжал Дамиан,— ты знаешь, что я служитель Христа. Господь помогает мне в делах моих, но исцелить сам я не могу. Он один всемогущ. Обратись к Нему с верой, и Он исцелит твой недуг…
— Но я не знаю Его…
— Узнаешь после. Поверь лишь, что Он может это сделать, и с верой обратись к Нему…
— Но я не умею…
— Будем вместе просить Господа…
И, опустившись на колени, Дамиан стал громко молиться, прося Христа услышать его и юношу и послать несчастному исцеление.
Долго молился Дамиан, а за ним и юноша повторял святые слова молитвы. Что-то тихое и отрадное стало мало-помалу нисходить в душу больного, и он все с большим жаром молился и молился…
— Веришь ли, что Христос исполнит то, о чем просишь? — спросил его Дамиан.
— Верю! — твердо ответил больной и в ту же минуту прозрел.
Много бед причиняли Италии нашествия диких вандалов, много цветущих здоровых юношей уводили они в плен. Особенно тяжело для Италии было одно нашествие — вандалы доходили до города Нолы и увели несколько сот пленников. Солнце близилось к закату. На крыльце своего домика стоял епископ Павлин. Это был пожилой человек с кротким добрым лицом. Перед епископом стояла женщина; по ее исхудавшему лицу, заплаканным глазам, темной одежде можно было догадаться, что она переживала тяжелое горе.
— Помоги, господин,— твердила она,— сына моего увели вандалы, я совсем одна, я не переживу этого горя!.. Ты всем помогаешь, ни один странник не останется без приюта, дойдя до дому твоего: никто не выходил от тебя голодным; ты одеваешь бедных, нищих, выкупаешь пленников! Господь воздаст тебе сторицею за твои добрые дела… Сжалься надо мной, помоги!..
Две крупные слезы катились по щекам старца… О, если бы он мог! Еще вчера было у него несколько сот золотых, но все до одного они розданы тем, кто пришел раньше. Все знали епископа Павлина, каждый спешил к нему за помощью и всех наделял любвеобильный старец. Вдова пришла слишком поздно.
— Как помочь ей, Господи? Научи,— молился старец.
Вдруг лицо его озарилось радостной улыбкой.
— Я спасу твоего сына,— вдохновенно молвил старец,— слушай: я беден, у меня нет больше ничего, кроме самого себя: поедем в Африку, к вандалам,— обменяй меня на твоего сына.
— О господин мой! — в отчаянии вскричала вдова,— сердце мое разрывается от тоски и горя, а ты смеешься надо мной!
— Бог свидетель мне,— смиренно отвечал епископ,— что я не смеюсь над тобой. Умоляю тебя, согласись на мое предложение, я с радостью исполню долг свой, ибо Господь повелел душу свою за ближних класть, а я отдаю лишь свободу, которая мне не нужна. Кому нужен я? А ты без сына, как сама говорила, не можешь жить. Успокой совесть мою, вечно буду я благодарить тебя за то, что ты указала мне способ прославить имя Господа моего, исполнить заповедь Его!
Долго умоляла вдова старца изменить свое решение,— такой ценой она не хотела свободы сына,— но епископ оставался непреклонен.
Всю ночь молился епископ Павлин.
— Боже праведный! — говорил он,— как возблагодарить Тебя! Дай мне лишь сил довести начатое до конца!
Чрез несколько дней он и вдова отправились в путь. Преодолев наконец все трудности опасного путешествия, они прибыли в Вандальское царство и разыскали сына вдовицы. Случилось, что господину его требовался виноградарь, и он с охотой променял юношу-наследника на епископа. Счастливые возвратились мать и сын на родину.
Много лет прожил епископ Павлин в неволе. Кроткий, исполнительный, он приобрел всеобщую любовь и уважение. Много насадил он семян христианства в дикой стране, сам царь узнал о нем, приблизил к себе и полюбил. Желая отблагодарить епископа Павлина за многие услуги, царь даровал ему свободу и отпустил на родину всех его соотечественников.
После долгих, упорных боев сарацины завладели городом Рамеллиею и заняли его.
Жители в ужасе бежали, и в городе оставалась лишь небольшая часть населения…
Сарацины расположились в домах на зимовку.
Однажды несколько сарацин вошли в храм во имя Георгия Победоносца и с любопытством стали рассматривать внутреннее убранство церкви…
Вдруг они заметили в одной из частей храма священника, который на коленях молился перед иконой Георгия Победоносца.
Сарацины стали смеяться над священником и один из них, по имени Абрек, с насмешкой промолвил;
— Смотрите! Вот безумец! Молится перед доской!..
И он натянул лук и пустил стрелу в изображение Георгия Победоносца. Но стрела не попала в цель; она ударилась о каменную стену выше иконы и, отскочив, с силой вонзилась в руку юноши, пустившего ее.
Сарацин вскрикнул от боли и вместе с товарищами поспешно вышел из храма.
К вечеру рука его стала еще больше болеть и вся опухла. Больной испытывал сильные страдания и не знал, что делать. Товарищи приходили навещать его и все с прискорбием замечали, что положение больного становилось все более и более опасным.
У Абрека хозяйка дома была христианка. Она слышала, как больной рассказывал своим друзьям о том, как он заболел.
Когда Абрек остался один, она вошла к нему и сказала:
— Не посердись на меня! Я вижу, что ты страдаешь, и хочу помочь тебе. Исполни мой совет: пойди к священнику нашей церкви, он поможет тебе…
Абрек с удивлением слушал слова христианки; он презирал христиан, но страшная боль не давала ему покоя и он решил последовать совету христианки.
Священник ласково встретил юношу.
— Чем могу послужить тебе, сын мой? — спросил он.
Абрек рассказал, почему он пришел.
— Я не верю в вашего Бога,— сказал юноша,— но хочу спросить тебя, кто это Георгий Победоносец, которому ты молился. Это ваш Бог?
— Нет,— отвечал священник,— Георгий Победоносец — усердный служитель нашего Бога; своей праведной жизнью он заслужил любовь Господа и теперь молится за тех, кто просит его помощи, и Бог всегда исполняет его просьбы.
— Так он может исцелить меня?
— Он может молиться за тебя, если ты попросишь его помощи, и Господь исцелит тебя…
В душе Абрека началась сильная борьба. То, что он слышал, было ему так чуждо и ново, а между тем какой-то голос внутри будто побуждал его сделать так, как говорил священник.
— А что же мне надо сделать? — в смущении спросил больной,— я не знаю, как обратиться к Георгию Победоносцу…
— Возьми икону великомученика,— ответил священник,— повесь ее над постелью твоей и зажги лампаду, пусть она теплится всю ночь, а наутро с молитвой помажь больную руку елеем (маслом) из лампады — и исцелишься, если с верой будешь просить…
Юноша взял икону и поступил, как сказал ему священник.
На другое утро, едва забрезжил свет, в домик священника кто-то постучался.
Священник открыл дверь и увидел Абрека.
Юноша упал к его ногам.
— О отец мой! — услышал он взволнованный голос Абрека,— посмотри! Рука моя исцелилась! Я пришел молить тебя: научи меня поклоняться и познать твоего Бога, Который столь могуществен и милосерден для Его служителей. Я хочу быть христианином!
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас,— послышалось за дверьми кельи.
Маслом.
— Аминь,— ответила монахиня Монония.
В келью вошел согбенный старец. Это был преподобный Макарий. С особенною целью пришел он к монахине. В молодых летах жила инокиня Монония в монастыре, вела благочестивую жизнь, предавалась духовным подвигам, но мало-помалу крупный недостаток образовался у нее: она полюбила богатство и стала ревностно собирать его для своей племянницы, которую собиралась выдать замуж. Преподобный хотел уврачевать этот тяжкий душевный недуг монахини.
— Я пришел к тебе по делу,— начал старец.— Один купец продает два драгоценных камня редкой красоты — изумруд и яхонт. Не хочешь ли купить их? Они пригодятся для твоей племянницы.
С радостью согласилась монахиня на предложение старца, который в молодости славился как искусный гранильщик драгоценных камней, и передала ему пятьсот золотых для покупки камней.
Старец просил монахиню через несколько дней зайти к нему за получением камней.
Прошло несколько дней. Монахиня пришла в монастырь, где жил преподобный Макарий.
— Что хочешь видеть прежде, яхонт или изумруд? — спросил Макарий.
-
Что тебе угодно,— ответила старица.
Преподобный ввел тогда ее в комнату. Нищие хромые, слепые, расслабленные сидели там за столом и, вкушая пищу, благословляли имя Мононии.
— Вот твой яхонт,— указывая на них, сказал Монахине преподобный.— А это твой изумруд,— продолжал старец и отворил дверь в другую комнату, где обедали женщины, больные и старые, и также молили Бога о здравии Мононии.
— Если тебе не нравятся яхонт и изумруд, возьми назад свои деньги, а если нравятся, возьми их себе: нет ничего драгоценнее этих камней.
Монахиня с трепетом внимала словам старца и потом в тяжелом раздумье вернулась в свою келью.
— Ночью тяжкие сны мучили монахиню. Ей снилось, что она умерла, и за грехи ее влекут на вечные муки, и чей-то голос говорит ей: «От этих ужасов тебя могут избавить яхонт и изумруд, купленные для тебя святым Макарием»…
В ужасе проснулась инокиня, и с этого дня прежней Мононии нельзя было узнать: она все свое достояние и все свои силы стала употреблять на помощь больным и бедным.
Во Фригии (древнее государство в Малой Азии), в местечке Хонех воздвигнут был храм во имя Архистратига Михаила. Храм был построен над источником, воды которого чудесно действовали на всех, с верой и молитвой прибегавших к Богу. Недужные получали здесь исцеление, и многие из неверных, видя чудеса, обратились ко Христу.
Каждое новое чудо, новое обращение в христианство наполняли яростью сердца язычников, и они решили разрушить храм и уничтожить источник.
Несколько выше храма протекала река. Язычники собрались в громадном числе и стали рыть ров от церкви к реке. Они рассчитывали, что воды реки разрушат храм и зальют источник. Десять дней трудились язычники, и уже только тонкий перешеек отделял реку от рва. Десять дней и ночей неусыпно молился Богу святой Архип, священник храма. Он горячо надеялся на помощь Божию и молил Бога не дать язычникам посмеяться над Христом, над храмом христианским.
— Бог все может, молитесь Ему, веруйте в Его благость и могущество,— говорил святой муж своей пастве, со страхом и отчаянием следившей за работами язычников.
Настала ночь.
Язычники собрались у храма, они смотрели, как воды размывали узкий перешеек, и ждали, что вот-вот воды прорвутся и разрушат церковь.
Около полуночи вода прорвалась, и со страшным шумом волны покатились к храму.
Святой Архип, молившийся в храме, бросился к окну… И видит: грозные волны кипят и приближаются к храму. Но вот, в огненном столпе, внезапно спустившемся с неба, в небесном сиянии явился Архистратиг Михаил.
Крестным знамением оградил Архистратиг бурных поток, и воды остановились. Мечом ударил небесных воин в камень, лежавший неподалеку от алтаря. Раздался гром, земля сотряслась, скала дала трещину, и воды потока низверглись в открывшуюся бездну. Храм остался невредим, пламенная вера святого не была посрамлена.
Дожди лили без перерыва, наступала сырая южная зима. Дороги превратились в топкие болота.
Преподобный Серапион, едва передвигая ноги по липкой грязи, шел из своей пустыни в Александрию. Навстречу ему попался нищий, дрожавший от холода. Напрасно он молил о подаянии: озлобленные, истомленные путники проходили мимо, не обращая на него внимания. Серапион остановился пред нищим, снял свою мантию, закутал ею бедняка и продолжал путь.
Встречные спрашивали инока, куда дел он свою одежду…
— Эта святая книга раздела меня, — отвечал преподобный, указывая на Евангелие, с которым никогда не расставался; это было его единственное
имущество.
Новое испытание готовилось святому. У самых ворот Александрии он увидел, как вели бедняка в тюрьму за долг. Не раздумывая, поспешил старец на торг, продал Евангелие и выкупил несчастного должника. Когда старец вернулся в свою келью, ученик спросил у него:
— Где, отче, твоя одежда?
— Я отослал ее туда, где можно вместо нее получить лучшую.
— А где святое Евангелие?
— Сын мой! оно беспрестанно твердило мне: «продай имущество и дай нищим», а ты знаешь, что оно одно составляло все мое имущество, поэтому я его продал и отдал нищим.
Уже солнце склонялось к западу, когда старец Паисий возвращался из города в обитель. Вдруг по дороге встретился ему человек в скромной одежде, который шел прямо к нему.
— Отец мой! — услышал старец слова незнакомца, когда тот подошел совсем близко.— Я вижу, что ты утомлен; не откажи мне и окажи мне радость — зайди в дом мой и вкуси пищи и отдыха.
— Охотно, сын мой,— отвечал инок и направился за незнакомцем.
Вскоре они пришли к небольшой хижине, войдя в которую старец увидел нескольких нищих и убогих, которые сидели за трапезой.
Незнакомец усадил старца за стол и снова вышел из дома.
— Кто этот добрый человек? — спросил инок у своего соседа.— И почему он позвал нас?
— Это Евлогий, каменотес,— отвечал нищий,— он весь день работает, а вечером собирает в своей хижине нищих и убогих и кормит их от трудов своих.
Старец подивился столь великой любви к ближнему. Отдохнув и подкрепив ослабевшие силы, Паисий вышел из хижины. Встретив Евлогия, который снова вел к себе больную старушку, Паисий благословил его и, поблагодарив за гостеприимство, продолжал свой путь.
«Господи! — думал старец,— если Евлогий, будучи бедным, делает столько добра, скольких же осчастливит он, если будет богат?»
И старец стал молиться о том, чтобы Бог послал Евлогию богатство.
В ту же ночь Паисий увидел сон, будто ангел явился ему и сказал: «Паисий! Господь исполнит просьбу твою, но ты должен дать душу твою в залог того, что Евлогий в пользу употребит богатство».
— С радостью ручаюсь душой за него,— ответил старец,— разве Евлогий не доказал еще своего доброго сердца?
— Бог знает лучше, чем ты, что надо человеку,— ответил ангел,— но пусть будет по воле твоей.
И Паисий проснулся.
Через несколько дней Паисию снова пришлось побывать в городе, и он спросил одну нищую об Евлогие.
— Ах! С ним произошло что-то странное! — ответила старушка.— Он уж два дня, как уехал в чужую страну. Говорят, он нашел в скале золото во время работы.
Паисий порадовался, услышав, что сбывается то, о чем он просил: одно лишь его удивляло, зачем Евлогий уехал
— Скоро он, верно, вернется? — спросил он. — Нет,— с грустью ответила нищая,— говорят, он поступил на службу к какому-то знатному господину… Горе нам-то какое — лишились мы кормильца!..
Чрез некоторое время Паисий еще услышал об Евлогие. Говорили, что он сильно разбогател, занялся торговлей, и к ужасу своему Паисий услышал, что Евлогий стал сребролюбив и совсем забыл о нищих.
С каждым разом все печальнее и печальнее доходили слухи об Евлогие. Говорили, что ради корысти Евлогий не останавливается ни перед чем и даже
готов на бесчестные поступки.
Паисием овладело отчаяние.
— Господи! — молился он, обливаясь слезами.— Прости мне безумное мое обещание, разреши душу мою от страшного залога! Ведь Ты ведаешь, что я от чистого сердца просил Тебя за Евлогия, но как я ошибся!
Ночью Паисий снова увидел во сне ангела.
— Ты видишь сам,— сказал ему небесный посланник,— сколь безумно пытался переделать то, что сотворил Господь. Милосердный Спаситель прощает тебе твое неведение; смотри же впредь, не порицай дел Божиих.
Вскоре услышал Паисий, что Евлогий разорился и ушел от знатного вельможи, который сильно на него прогневался и прогнал от себя.
Прошло несколько недель.
Каково же было удивление Паисия, когда однажды, возвращаясь в обитель, он снова встретил Евлогия в скромной одежде каменотеса.
Старец с радостью обнял его и спросил, каким образом он снова очутился здесь.
— Я вернулся на родину с грешной целью, — чистосердечно рассказал ему Евлогий, — надеясь снова найти в скале золото. Но сколько я ни трудился, стараясь найти золото, — мои труды были напрасны. Милосердный Господь сжалился надо мной, и я опомнился. Я понял, сколь грешно я употребил то добро, которое было ниспослано мне для ближних; и что Господь карает меня за мой грех. Теперь я — прежний Евлогий и постараюсь искупить свои грехи и вознаградить моих бедных и больных братьев за те нужды, которые они испытали в мое отсутствие!
И снова каждый вечер Евлогий после тяжелого трудового дня выходил на дорогу и звал нищих и убогих.
А Паисий со слезами раскаяния и благодарности припадал к холодному полу своей убогой кельи, прося Создателя простить ему его заблуждение и воздавая Богу хвалу за Его бесконечную щедрость.
МНОГО ЗВАНЫХ НО МАЛО ИЗБРАННЫХ
Однажды утром в келью Григория, прозванного за свои душеспасительные речи Двоесловом, постукался нищий. Инок, не отрываясь от работы, впустил нищего в келью.
— Чем могу помочь тебе, брат мой? — спросил Григорий.
— О отче! — воскликнул нищий, падая на колени.— Великие несчастья преследуют меня: я был богатым купцом и вел обширную торговлю; но Богу угодно было наказать меня за грехи: нынче утонул мой корабль с товарами и я совсем разорен, да еще имею большие долги…
— Молись Богу, бедный брат мой,— со слезами утешал инок нищего,— Он милосерд и поможет тебе…
Григорий кликнул келейника и велел ему дать нищему шесть златниц. Нищий усердно благодарил инока и ушел. Но не прошло и часу, как он снова явился к Григорию.
— Горе мне! Горе! — повторял он, ударяя себя в грудь,— мне необходимо еще шесть златниц, а то те, которым я задолжал, посадят меня в тюрьму…
Григорий велел тотчас дать ему еще шесть златниц и, напутствуя нищего благожеланиями, отпустил его.
Но в тот же вечер нищий снова явился в келью инока.
Он упал на колени и с рыданиями молил Григория еще помочь ему…
— Помоги мне, раб Христов,— твердил он,— или я погибну.
— Встань, брат мой,— утешал его инок,— я помогу тебе.
Инок кликнул келейника и велел ему выдать нищему еще шесть златниц.
— Но, отче, у нас нет больше ни одной златницы,— отвечал келейник.
— Так дай ему что-нибудь другое из одежды или посуды,— отвечал Григорий.
— У нас ничего нет, кроме серебряного блюда, которое прислала нам твоя мать.
— Так дай его поскорей нищему, чтобы он не ушел от нас с печалью.
Незнакомец, взяв блюдо, со слезами благодарил Григория, ушел и более не возвращался.
Прошло много лет.
Григорий сделался римским архиепископом. Однажды, обходя стол, за которым обедало двенадцать нищих, приглашенных Григорием, он узнал среди них того нищего, который когда-то приходил к нему, прося помощи.
Григорий удивился, что казначей позвал еще одного нищего, и спросил его, почему он так сделал.
— Почему ты позвал тринадцать человек? Я с радостью угостил бы еще вдвое больше человек, но мне горько, что ты ослушался меня.
Каково же было удивление Григория, когда казначей ответил, что он позвал двенадцать человек и что он не видит тринадцатого нищего.
Сильно смутился Григорий, выслушав слова казначея, и стал следить за странным гостем.
Когда окончилась трапеза, Григорий подошел к незнакомцу, взял его за руку и увел к себе. Здесь, пристально глядя в лицо нищего, он сказал: — Силою Бога Вседержителя, скажи, кто ты? — Я тот бедный мореплаватель,— отвечал незнакомец,— которому ты дал когда-то двенадцать златниц и серебряное блюдо. Познай, что от того дня Господь нарек тебя архипастырем церкви земной. Я Ангел Господень, к тебе посланный, чтобы узнать твои чувства, не для тщеславия ли подаешь милостыню?
Григорий в ужасе повергся на землю, говоря:
— Прости меня, служитель Христов, что я беседовал с тобой, как со смертным!…
— Не страшись,— отвечал Ангел,— Господь хотел испытать тебя. Многие творят милостыню, упоминая имя Христово, но не по сердечному побуждению, а из тщеславия, «ибо много званых, но мало избранных». Христос Спаситель видел смиренную искренность твою и повелел мне, да всегда с тобой пребываю и приношу к Нему молитвы твои: все, что с упованием просишь, от Того — приимешь!..
С этими словами небесный гость стал невидим.
Григорий склонился до земли и, воздав благодарение Богу, воскликнул:
— Слава Тебе, милосердый Христос Бог мой! Верую, что милость Твоя к милостивым неизреченна, когда и за малое подаяние столько возлюбил меня, что приставил ко мне Ангела-Хранителя!
С раннего утра город Миры Ликийские был охвачен необычайным волнением.
Страшная весть облетела город и передавалась из уст в уста. По приказанию правителя города трое жителей схвачены и осуждены на смерть. Толпы народа стекались к месту казни.
— В чем вина осужденных? — спрашивали люди.
— За что их казнят?
Но никто не мог ответить на эти вопросы, и глухой ропот поднимался в народе.
— Безвинные! Безвинные! — повторяли кругом.
На площади все было готово к казни.
Привели осужденных.
Закованные в кандалы, бледные, с лицами, полными ужаса и отчаяния, шли несчастные, окруженные стражей.
Толпа затихла и плотной стеной окружила страшное место.
— Начинайте! — крикнул правитель города. С осужденных сняли верхние одежды. Первый из них уже встал на колени и опустил голову.
Торжественно поднял палач меч над головой осужденного, еще миг…
Вдруг толпа заволновалась, расступилась, и на месте казни появился епископ Николай.
Взор старца был грозен.
Твердой рукой схватил он меч и бросил на землю.
— Остановись! — сказал он палачу.— И возблагодари Господа, что не попустил тебе совершить неправое дело!..
В ту же минуту епископ подошел к другим осужденным и от одного прикосновения старца спали с них оковы.
Народ, пораженный чудом, в благоговейном молчании смотрел на епископа. Но правитель города подошел к старцу и, устремив на него взор, полный злобы и ненависти, промолвил:
— Святой отец! Здесь не ты правишь суд, а я. Именем царским осудил я этих злодеев на смерть. Какой властью освобождаешь ты их от казни?
— Именем правды,— кротко ответил старец,— ибо они не злодеи, но безвинно осуждены.
Правитель ничего не мог ответить епископу и, гневно окликнув стражу, удалился, оставив осужденных.
Умиленные, благодарные, полные радости и любви, люди бросались к ногам старца и целовали его одежду.
— Возблагодарите милосердного Христа,— повторял Святитель Николай, благословляя народ.
Несмотря на то, что было уже восьмое мая, день выдался сырой и хмурый. Унылые тучи повисли над Константинополем, время от времени дождь тяжелыми холодными каплями проливался из них.
На улицах все было точно задернуто туманом, и среди дня было мрачно, как в сумерки.
Едва ли еще не более сыро, холодно и мрачно было в низком темном подвале, который занимал вместе со своей престарелой женой ремесленник Николай. Дряхлость и болезни подточили благосостояние этого некогда вполне благополучного человека. Все, что можно было продать, давно продано; осталось лишь то, чего не хотели брать даже самые нетребовательные покупатели, да ковер, с которым было связано столько дорогих воспоминаний.
Продрогшие, ослабевшие от продолжительного недоедания, старики грустно беседовали. Они уже освоились со своим тяжелым положением, они не ропщут на свою судьбу, но завтра… завтра праздник Святителя и Чудотворца Николая, а у них… нет даже мелкой монеты, чтобы купить в церкви свечу… А ведь в прежние годы с особенною торжественностью чествовали старики праздник своего небесного покровителя.
Долго горевали старики, и вдруг жену ремесленника озарила счастливая мысль.
— Ты знаешь,— сказала она мужу,— что мы оба стары и близки к смерти. Как же нам не почтить, быть может в последний раз, память Святителя Николая? Возьми ковер, продай его… О счастливых днях молодости мы будем помнить и без него, а свое старческое тело я как-нибудь согрею и без ковра, который уже столько времени в холодные ночи является для меня единственной защитой.
Николай с радостью согласился на предложение жены, взял ковер и понес его на рынок. На рынке к Николаю подошел какой-то старец и спросил, что он продает.
— Я продаю ковер,— ответил Николай.
— Сколько же ты хочешь за него получить?
— Новый он стоил восемь златниц, а теперь возьму, сколько дадут.
— Хочешь взять шесть златниц? — спросил старец.
Удивленный щедростью старца, так дорого предложившего за потертый и выцветший ковер, Николай охотно согласился.
Старец расплатился и, взяв ковер, ушел, а Николай поспешил в лавки закупить просфоры, вино, свечи и ладан.
Утомленный возвращался Николай домой, но едва он отпер дверь в свое жилище, как жена начала осыпать его упреками, стала называть лжецом, скупым, упрекать, что он пожалел продать ковер.
Николай в изумлении остановился, часть покупок выпала у него из рук. Еще более пораженной оказалась жена, когда увидела, что Николай явился с покупками.
— Не прошло и четверти часа, как ты ушел,— заговорила жена Николая,— в дверь раздался стук, и вошел какой-то старец. «Я старинный друг вашего мужа,— сказал он,— и вот по его поручению принес вам ковер…» Я и думала, что ты переменил свое намерение и не решился продать ковер…
В изумлении, ничего не понимая, стоял Николай…
— … Старец был высокого роста,— продолжала жена,— в светлой одежде… величественен и блистателен лицом… Он похож на кого-то… да… да он — вылитый Святитель Николай, как его рисуют на иконах!.. Это был он!..
Тут вспомнилось Николаю, с каким удивлением смотрели на него на рынке окружающие, когда он говорил с покупателем ковра, а один сосед даже сказал: «Э, да ты сам с собой, бедняга, говоришь…» Все стало ясным теперь, и поняли супруги, какой чудный старец купил и принес обратно ковер; с трепетом пали они на колени, прославляя Святителя и Чудотворца Николая.
В большом городе, у базарной площади, сидел старик-монах. Каждый день приходил он сюда, но не добрая цель влекла его.
— Народ во множестве собирается каждое утро на базар,— говорил инок,—полезно людям иметь вблизи духовного наставника…
Но это была неправда. Старец был очень сребролюбив и много подач доставалось ему от проходящих. Случилось однажды, что проходил мимо инока Христа ради юродивый Андрей, одаренный даром прозорливости. Поравнявшись со старцем, блаженный остановился и стал пристально смотреть на старца.
— Бог подаст! — поспешил сказать инок, думая, что Андрей остановился перед ним, чтобы просить милостыню.
Но блаженный стоял неподвижно, с ужасом смотря на инока.
— Сжалься над ним, о Боже Спасе! — воскликнул Андрей, падая на колени, и начал молиться.
Старец с недоумением смотрел на него. Окончив молитву, Андрей подошел к иноку и сказал:
— Безумец! Опомнись! Подумай о душе своей! Зачем губишь себя? Ты был чист и имел образ ангельский, зачем допустил врага покорить свою душу? Зачем собираешь сокровища на земле, где все мгновенно? Если умрешь нынче ночью, зачем богатства твои? А душу свою погубил… Смотри!
И блаженный указал вдаль. Тогда разверзлись вдали небеса, и увидел старец двух мужей. Один был в светлой одежде с белоснежными крыльями, лицо его было печально, он поник головой. Другой был в мрачной одежде, глаза его горели огнем, он с дикой радостью смотрел на старца. Он хотел приблизиться к старцу, но присутствие блаженного Андрея удерживало его.
— Это твой Ангел-Хранитель и диавол борются из-за души твоей,— сказал блаженный.— Враг готов кинуться на твою душу и растерзать ее. Покайся — и Ангел-Хранитель подойдет к тебе. В страшном ужасе упал старец на землю и громко произнес клятву быть бессребреником. Едва сказал он слова клятвы, блеснула молния, страшный удар грома потряс небеса — и черный муж исчез, а белоснежный ангел с ликующим ликом приблизился к старцу.
— Не говори никому о случившемся,— сказал блаженный Андрей,— не забудь клятвы своей, а я буду каждый день и ночь поминать тебя в своих молитвах, чтобы Господь управил путь твой на доброе.
Старец тотчас роздал все добро свое нищим и с этого дня стал бессребреником.
Княжич Игорь тешился охотой в дремучих лесах, широко раскинувшихся по берегам реки Великой.
Отстал Игорь от своей свиты. Один подошел он к Великой, широко и привольно катившей свои волны. Широка Великая, чуть не верста (верста — приблизительно 1,06 км) будет до другого берега, куда надо попасть Игорю. В недоумении остановился княжич: нет нигде ни перевозчика, ни ладьи. А пуститься вплавь не решается Игорь, опасается, что не хватит его юношеских сил переплыть широкую и глубокую реку.
Вдруг, вдалеке, из-за поворота реки показался маленький челнок. Игорь крикнул и махнул рукой, чтобы сидевший в лодке пловец направил лодку к нему.
Долго пришлось ждать княжичу. Пловец видимо был молод, неопытен; с трудом боролся он с волнами, которые относили его лодку. Наконец челнок стал приближаться, и Игорь с удивлением заметил, что лодкой правила девочка, лет 14-15. Умело владела она веслами, ловко направляла челнок по волнам. Игорь невольно залюбовался ею.
Челнок ткнулся в песок. Княжич легко вспрыгнул в лодку и хотел сесть за весла.
— Не трогай, еще лодку перевернешь, — строго прикрикнула девочка, ловко оттолкнула от берега лодку, налегла на весла, и челнок быстро понесся по течению, умело направляемый к другому берегу.
Девочка перевезла княжича и, выпрыгнув из лодки, скрылась в лесу.
Но княжич не мог забыть девочку, ее образ глубоко запал в его душу.
Немного прошло времени, князь Олег решил, что пришла пора искать невесту племяннику Игорю. Но Игорь давно уже выбрал себе подругу жизни — ту самую псковскую девочку, которая выросла и стала его женой. Княгиней Ольгой стали ее звать.
Годы шли за годами. Скончался Олег. После тридцатилетнего княжения умер Игорь, изменнически убитый древлянами.
В народных сказаниях сохранилась память о суровом, по обычаю того времени, мщении язычницы Ольги за смерть мужа. Мудро стала править государством овдовевшая княгиня, заботливо воспитывала она своего сына Святослава, младенцем оставшегося после смерти отца.
Когда сын подрос, княгиня Ольга передала ему управление государством, а сама решила позаботиться о спасении души. Давно уже познакомилась мудрая княгиня с учением христианским, но заботы по управлению государством мешали ей основательно узнать христианскую веру, к которой влекло ее сердце. Освободившись от государственных забот, Ольга решила предпринять путешествие в Константинополь и там принять крещение.
С большой свитой, в сопровождении дружины, отправилась Ольга в Константинополь.
— Благословенна ты в женах русских, ибо ты возлюбила свет и оставила тьму, и благословят тебя сыны русские! — так сказал Константинопольский патриарх княгине Ольге, во святом крещении нареченной Еленой, точно предсказывая ее будущее прославление.
Светлое радостное настроение княгини Ольги омрачилось лишь сознанием, что народ ее и сын находятся в язычестве.
— Помолись о них, владыка святый,— просила она патриарха,— да просветятся и они светом Христова учения.
Старания княгини Ольги обратить сына в христианство были напрасны.
— Сын мой, я познала Бога и радуюсь духом,— говорила княгиня,— если ты его познаешь, и ты радоваться будешь…
— Что скажет о мне дружина, если изменю вере отцов? — возражал Святослав.— Надо мной смеяться будут.
Тяжело было слышать эти слова княгине, но она жила надеждой, что Бог, если захочет, наставит на истину бродящих во мраке язычества. День и ночь молилась княгиня Богу о сыне своем и народе, чтобы Господь просветил их, а сама, заботясь о воспитании своих внуков, Ярополка, Олега и Владимира, старалась посеять в их душах семена христианства…
И эти семена принесли свой плод. Прошло не более двадцати лет после смерти благоверной княгини Ольги, и вся земля Русская просветилась христианством. Внук Ольги, князь Владимир, крестился сам и крестил русских людей.
В Киеве создал он Десятинную церковь и положил в ней нетленные мощи святой Ольги, «утренней звезды земли Русской», как называет ее летопись.
В высоком просторном тереме с решетчатыми оконцами, обвешанном по стенам тяжелыми пестрыми коврами, звериными шкурами, в углу, перед дубовым столом, на покрытой алым сукном лавке, сидел князь Владимир, против него стоял дряхлый старик-монах. На столе лежали книги Священного Писания, святой Крест и небольшая картина, изображавшая Страшный суд.
Мужественное, красивое лицо князя было задумчиво; он сосредоточенно смотрел на страшную картину и с напряженным вниманием слушал рассказ старца-монаха.
— … В тот час,— говорил инок,— Спаситель призовет всех на суд; каждый недобрый поступок, каждая злая мысль или слово известны Господу и обо всем придется дать ответ Ему на Страшном суде.
Крепко сдвинуты брови князя Владимира, немало недобрых дел совершил он в своей жизни, неужели он будет осужден с грешниками на вечную муку… Вопрос этот мучает князя.
— Неужели я погибну в огне? — спрашивает он.— Неужели нет мне спасения?..
— Бог все может,— отвечает инок,— я не раз говорил тебе, княже, о чудесах Спасителя, о Его милосердии. Вспомни, скольких грешников Он прощал, сколько сотворил чудесного! Прибегни к Нему и проси Его спасти твою душу, вывести ее из мрака, показать ей истинный свет… Разве ты не веришь, что Господь всемогущ и может просветить тебя?..
— Я охотно верю тебе,— горячо отвечал Владимир,— ты знаешь, что я полюбил твоего Бога и стремлюсь к Нему, но душа моя неспокойна, сомнения закрадываются в мое сердце, я еще не могу слепо верить. Ты много рассказывал мне чудес, сотворенных Христом, мне хотелось бы убедиться самому, что твой Бог так велик и всемогущ… Пусть на моих глазах совершится чудо,— и я уверую!..
Лицо инока омрачилось.
— Да, мало в тебе веры, княже, когда ты так говоришь, еще не понял ты учения христианского,— тихо заметил он,— но я верю,— и голос монаха зазвучал сильнее,— что Спаситель желает твоего спасенья и исполнит то, о чем ты просишь…
— Смотри,— быстро перебил его Владимир,— вон на дворе люди греются у костра,— пойдем, положи в огонь Евангелие; если справедливы твои слова, пусть книга останется невредимой… а то…
— Идем,— вдохновенно сказал инок,— ты увидишь могущество Христа!
Быстро спустились князь и инок по витой лестнице и очутились во дворе.
Подойдя к костру, князь велел высоко положить хворост и дрова.
Затрещал огонь, высоко поднялось пламя.
— Господь Всеблагий! — громко произнес инок,— дай сему неверующему увидеть славу Твою и познать Истину!
С этими словами он положил Книгу в самый огонь.
Словно выше взвились клубы черного дыма, зловеще затрещал огонь. Прошло несколько мгновений томительного ожидания.
— Посмотри теперь,— дрожащим от волнения голосом произнес Владимир.
Инок подошел ближе к костру и, протянув руку в самое пламя, вынул оттуда книгу.
Громкий крик изумления вырвался из уст князя и присутствовавших: не только Евангелие, но и ленты, заложенные в него, остались совершенно неповрежденными, словно огонь не касался книги.
Слезы умиления брызнули из глаз инока.
— Благодарю Тебя, Боже! — дрогнувшим голосом промолвил он, падая ниц.
— Я верю, — сказал Владимир, когда прошли первые минуты смущения, — теперь я твердо верю в Христа!
— Ты поверил, потому что увидел, — отвечал ему инок словами Спасителя, — блаженны невидевшие и уверовавшие!
В Курском соборе идет обедня. Множество молящихся наполняет храм.
У одного из клиросов на коленях стоит юноша. На вид ему лет пятнадцать, он высокого роста, красив собой. Каждый прихожанин хорошо знает его. Зовут его Феодосием; он посещает все церковные службы, иногда продает просфоры. Во время богослужения он всегда стоит на своем обычном месте — у клироса. Феодосии — сын богатой вдовы.
Служба идет торжественно и чинно. Вот выходит диакон со святым Евангелием.
«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим…» — раздается голос диакона.
Глубоко, глубоко западают в душу Феодосия великие слова Спасителя.
— Господи! Ты зовешь меня,— неслышно шепчут уста юноши.— Ты указуешь мне путь… Научи меня, как мне быть, как покинуть дом, как посвятить себя на служение Тебе, мой Создатель и Спаситель…
И Феодосии с мольбой взирает на Божественный лик Спасителя.
Феодосии давно решил посвятить себя Богу, но осуществить свое намерение ему все не удавалось. Мать Феодосия и слышать не хотела о том, чтобы сын ее пошел в монахи. Раз как-то Феодосии бежал из дома с богомольцами, но мать разыскала и вернула его в свой дом.
Служба окончена.
Задумчивый приходит Феодосии домой, слова Евангелия не выходят у него из памяти.
Придя домой, Феодосии узнает, что мать его уехала на несколько дней к сестре.
«Это указание свыше,— проносится в уме юноши,— Господь помогает мне. Теперь или никогда».
Наскоро собравшись, Феодосии к вечеру покинул родной дом и направился по дороге в Киев.
В нескольких верстах от Киева, в дремучем лесу, стоят две небольшие кельи. Кругом пустынно и тихо. В одной из этих келий живет отшельник Антоний, а в другой — Феодосии. Ему удалось добраться до Киева, преодолев все трудности. Но в Киеве ни один монастырь не постриг его, и вот, узнав об Антонии, Феодосии пришел к нему и просил принять к себе. Мудрый старец узрел в Феодосии избранника Божия и приютил его.
Тихо и мирно текла жизнь двух отшельников; ничто не нарушало их покоя.
И вдруг к Антонию явилась мать Феодосия. Со слезами молила она старца возвратить ей сына.
— Сын твой — не мой, он — Божий,— отвечал ей старец,— Бог призвал его: он еще юн, но подвиг его велик, он тверд в своем решении, он не вернется в мир.
— Уговори его, отец, хоть повидаться со мной,— молила мать,— или я умру на пороге его кельи.
Долго пришлось Антонию убеждать Феодосия выйти к матери. Наконец он согласился.
Увидя изнуренное тяжелым трудом, изможденное лицо сына, мать с рыданием бросилась к нему.
— О, сын мой,— говорила она,— вернись ко мне, утешь мою старость, я не могу жить без тебя!
— Нет, матушка,— смиренно, но твердо отвечал Феодосии,— это невозможно, я посвятил себя Богу.
— Дитя мое, родной мой, как буду жить я без тебя? Дозволь мне хоть видеться с тобой… не скрывайся от меня.
— Я не от тебя скрываюсь,— отвечал Феодосии,— я укрылся от мира и от всего мирского. Если хочешь быть близкой мне, постригись в монастырь, что близ Киева, тогда я буду беседовать и видеться с тобой, как с сестрой о Христе.
Ни просьбы, ни мольбы не могли склонить Феодосия изменить его решение. Через короткое время мать его распродала свое имение и постриглась в соседнем монастыре.
В только что отстроенном большом соборе Киево-Печерской Лавры кипит работа. Вызванные из Византии игуменом Никоном иноки-греки пишут иконы и расписывают священными изображениями стены великолепного храма. Он еще весь застроен лесами, пахнет сыростью, известкой и краской. Огромный купол, весь расписанный херувимами и ангелами, высоко поднимается над храмом и придает ему какую-то таинственную торжественность и неземное величие, располагающие к молитве… Несмотря на то, что стоит душный, жаркий июльский день, в храме, под его высокими сводами, прохладно…
В одном из углов храма, на лестнице, в ветхом подряснике, поверх которого наброшен забрызганный краской фартук, сидит старик-грек и умелой рукой пишет образ апостола Павла. Образ на диво хорош: сколько жизни, любви, вдохновения в каждой черте лица апостола!
Возле лестницы, на полу, склонился мальчик лет тринадцати; он растирает на камне краску. Время от времени старик обращается к мальчику за той или другой кистью, краской.
— Смотри, дитя,— говорит старик мальчику, указывая на апостола,— видишь ли ты этого дивного старца? Это великий апостол, служитель Христа, это — Павел. Он был сын богатых родителей, не ведал Христа, он был слеп душой… Он первый уговаривал евреев гнать христиан. Но Господь призвал его, открыл ему всю истину Своего Божественного учения, и прежний жестокий гонитель христиан оставил родителей, богатство, все… и стал смиренным учеником Спасителя. От него многие узнали и приняли веру Христову, всю свою жизнь провел он в трудах и молениях, далеких странствиях… И у нас, на моей далекой родине, в Греции, он проповедовал Евангельское учение. До конца оставаясь верным, любящим, смиреннейшим учеником своего дивного Учителя, он принял смерть за Его святое имя…
Рассказ старика производит глубокое впечатление на мальчика; с благоговением смотрит он на образ апостола, и ему кажется, что и апостол с любовью глядит на него…
Солнце близится к закату.
В соборе, и без того несколько мрачном, становится темно; работать больше нельзя. Художники-иноки расходятся по своим кельям.
И старик с мальчиком направляются по знакомой тропинке в убогую келью старого монаха.
На пороге кельи сидел молодой крестьянин. Его красивое лицо поражало своей бледностью и худобой.
При виде приближавшегося монаха, крестьянин быстро встал и низко поклонился.
— А я к тебе, отец Григорий, пришел, пособи… сил больше нет! Время рабочее, руки нужны, сила , а я…
Слезы градом полились из его глаз.
— Не отчаивайся, сын мой, верь в Господа Иисуса Христа, молись Ему и Его святым угодникам,— пройдет болезнь твоя. Зайди, я тебе дам травы. Попей ее, увидишь, вернет тебе Бог силы и здоровье. Монах с мальчиком вошли в келью, вошел и пришедший. Старик достал из какого-то ящика пучок сушеной травы, перекрестил ее и подал крестьянину.
— Иди с мирам! Бог милостив! — сказал он. Парень поцеловал морщинистую старческую руку, поклонился в пояс и вышел.
— Какую траву ты дал ему, отче? — с любопытством спросил мальчик.— Сколько больных приходит к тебе, и всем ты даешь или травку, или зерна, или еще что-нибудь. Что ты даешь этим болящим?
Мальчик поднял на старика свои не по-детски глубокие, вдумчивые светлые глаза.
«Чудный ребенок,— подумал монах,— видно, ему велит Господь передать то искусство, которое постиг я по Его святой воле».
‘ — Велик Бог, сотворивший вселенную. Слава Его дивной премудрости! — начал монах.— Все, что ты видишь, Алексей, на земле, все сотворено Им, по Его Слову, на пользу царю природы — человеку. Ни одна травка, ни одна былинка, ни один лепесток не живут без пользы для человека, но не всем людям открывает Господь тайный смысл их творения. Многие годы посвятил я, дитя, на изучение дивной науки врачевания. Неустанно трудился я, изучая природу, и Бог благословил увенчать работу мою счастливым концом. Я достиг цели. Уж давно лечу я больных и немощных и даже многих спас от неминуемой смерти.
— Отче,— прошептал мальчик,— научи и меня этой дивной науке!
Прошло несколько лет.
Алексей из мальчика превратился в юношу. Находясь беспрестанно в обществе отца Григория, ревностного, истинного монаха, видя его строгий образ жизни, Алексей мало-помалу и сам полюбил эту жизнь. Читая книги Священного Писания, слушая рассказы старого монаха о подвигах святых, мальчик все больше и больше проникался пламенной верой и любовью к Христу и, наконец, решил и сам принять монашество.
Между тем собор был окончен, и иноки-греки собрались в обратный путь.
Тяжело было Алексею расставаться с горячо любящим старцем-учителем, который столько лет, как отец, заботился о нем, научил его многому, пробудил И наставил на истинный путь его молодую душу…
— Помни, Алексей, — говорил инок Григорий, прощаясь с юношей, — все, чему я научил тебя, что ты знаешь, — всем ты обязан Господу; люби и верь в Него, надейся и прибегай к Нему в минуты горя, ибо Он велик и благость Его не имеет границ… Послужи Ему и прославь Его святое имя!..
Через три месяца юноша постригся в монашество и из Алексея обратился в инока Алипия.
С первых же дней своего монашества он ревностно принялся служить Богу и помогать ближним. Слава о его необыкновенном даре иконописца быстро росла. С радостью брался Алипий за кисть; он любил свое дело и сам просил уведомлять его, если где икона приходила в ветхость. За свою работу Алипий никогда не брал денег.
Занимаясь иконописью, Алипий не забывал и другого дела, которому научил его отец Григорий — врачевания. Множество больных приносили к нему, и многих несчастных он исцелял своим искусством и горячей молитвой.
Врачуя телесный недуг, Алипий заботился также и о душевном исцелении болящего. Алипий считал болезнь наказанием за грехи и побуждал больных к раскаянию. Горячая и убедительная речь Алипия находила отклик в душах больных и пробуждала в них сознание виновности перед Богом и желание впредь не грешить.
Был холодный осенний день. С утра шел мелкий дождик, сильный порывистый ветер тоскливо завывал в трубах.
Алипий усердно работал в своей тесной келье, он спешил до вечера дописать заказанную большую икону.
Вдруг кто-то тихо, нерешительно постучал в дверь. Алипий тотчас встал, оставил работу и направился к двери.
— Кто бы это был? — думал он.— Неужели больного решились нести ко мне в такую погоду?..
Но едва он открыл дверь, как в смущении невольно слегка отступил: перед его дверью, на коленях, стоял человек, больной проказой. Гнойные струпья, словно корой, покрывали лицо несчастного, из зияющих ран сочилась темная кровь…
— О, не уходи, не уходи! — в ужасе закричал больной, цепляясь за полы рясы Алипия.— Ты один можешь спасти меня… или… если и ты откажешься… я убью себя, я не могу больше так жить… Я был у всех врачей, всех знахарей, какие есть у нас в Киеве, но ни одно лекарство их не принесло мне облегчения… Я видел во сне, что ты исцелил меня, и вот, я кое-как пробрался к тебе, когда никто не мог меня видеть. О отче, я великий грешник, Бог справедливо наказал меня, но если бы ты знал, отче, как я всею душою каюсь в моих прежних грехах, как молю прощения за них, как возблагодарил бы я Господа, если бы Он простил меня?!. Я знаю, что я не стою прощения, но что ж делать, научи, отче, помолись за меня…
Рыдания прервали слова страдальца, С любовью, ласково обнял несчастного Алипии.
Лучезарная улыбка осветила его лицо.
— Дерзай, сын мой,— тихо сказал он,— Бог бесконечно милостив к несчастным. Но скажи мне, веришь ли ты, что Господь может мгновенно исцелить тебя, искренно ли раскаиваешься ты?
— О,— вскричал больной,— всей душой верю я теперь в силу Божию, всем сердцем приношу Господу раскаяние, никогда не забуду страшной кары, которую справедливо ниспослал мне Бог… Одного жажду: прощения.
— Верь и надейся,— сказал Алипии.
Он подошел к оконцу, где лежали его кисти и краски, взял кисть, обмакнул ее в краску и с молитвой стал водить ею по лицу больного. Когда краска скрыла все струпья на лице прокаженного, Алипии сказал ему:
— Теперь умойся святой водой…
И когда прокаженный исполнил, что велел ему Алипии, струпья сами собой спали с лица, и болезнь оставила его.
Весть о чудесном исцелении прокаженного быстро разнеслась по Киеву. Многие тысячи людей стали стекаться к Алипию, все изумлялись его чудному дару.
— Что изумляетесь? — смиренно говорил Алипий.— Сначала этот человек поработил себя греху и забыл Бога, посему и не мог исцелиться. Теперь же он пришел к Господу, раскаялся в своих прежних грехах, и Бог простил его!
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — послышалось за дверью кельи Алипия.
— Аминь! — ответил монах.
Дверь отворилась, и в келью вошел молодой послушник. Смиренно скрестив руки, он в пояс поклонился Алипию и сказал:
— Отец-игумен просит тебя, отче, к себе…
Алипий поспешно встал, взял посох и, перекрестясь, вышел.
В келье игумена Никона был еще один, незнакомый Алипию человек.
— Ты звал меня, отче,— обратился Алипий к игумену,— что велишь?
— Этот человек,— начал игумен,— пришел с жалобой на тебя, Алипий. Он говорит, что много денег уже дал тебе, не пожалел ничего, чтобы получит: написанные тобою иконы! Ты обещал к сроку исполнить заказ; срок давно миновал, а доски для икон до сих пор лежат чистыми у дверей твоей кельи. Не ожидал я от тебя этого, Алипий, и теперь не могу верить, что ты действительно совершил тако нехороший поступок!
С удивлением слушал Алипий жестокие слова игумена: все заказы Алипий исполнил к сроку и в ту пору как раз не было у него спешной работы. Неужели бы он забыл порученное ему? Да и денег он никогда не брал за свой труд, а тут говорят, что он взял их, да еще вперед!
— Не слышал я, отче, об этом заказе: ни денег, ни досок не брал и не видал,— ответил он,— и человека этого вижу в первый раз!
— Это правда,— сказал незнакомец,— ты не сам ко мне приходил, а присылал двух послушников: им я давал и доски, и деньги.
— Пусть придут эти иноки,— сказал игумен,— и принесут доски. Может быть, они нам разъяснят дело…
Через несколько минут в келью вошли два молодых монаха и принесли чистые доски. При виде Алипия и заказчика, иноки смутились и в волнении стали клясться и божиться, что они ни в чем не виноваты, что Алипий не хочет писать иконы…
Вдруг Алипий взглянул на принесенные доски; все лицо его преобразилось от бесконечного восторга: на досках были изображены дивные иконы!
Когда незнакомец, игумен и иноки обернулись на крик Алипия, все в изумлении увидели чудо.
Иноки со слезами бросились на колени,
— Виноваты мы, отче,— твердили они,— виноваты. Мы утаили деньги и не сказали ничего Алипию про заказ, опасаясь, что он узнает о деньгах и уличит нас! Доски же мы нарочно подбросили к дверям его кельи.
Всем стало ясно, что Алипий невиновен…
— Прости меня, отче, что я мог усумниться тебе,— со слезами сказал ему игумен.— Вижу, что Господь избрал тебя…
А Алипий, весь охваченный светлой радостью, умилением смотрел на голубое ясное небо и все душой благодарил Бога…
В соборе окончилась вечерня; монахи выходил из церкви и расходились по кельям.
— Отче! — вдруг услышал Алипий за собой голос проходя мимо одного старика. Он остановился.
— Отче! Не откажи!..
— Кто ты? В чем имеешь ко мне нужду? — спросил Алипий.
— Я пришел молить тебя, отче: напиши мне икону Успения Богоматери! Я построил храм во имя этого праздника, так завещала мне моя незабвенная дочь., Одна была она у меня, одна радость, утеха…— слезы появились на глазах старика,— но, видно, прогневил я Бога: лютая болезнь унесла ее в могилу.. Горько плакал я у постели моей умирающей дочери «Господи, думал я, зачем отнимаешь ты жизнь ; юного, полного сил и надежды, существа, и оставляешь жить никому не нужного, дряхлого старика?!.» И вдруг, словно угадав мою мысль, моя голубка, мой ангел, поднялась на постели и тихим голосом прошептала: «Не плачь, отец, не гневи Бога, а прославь имя Его! Построй храм, дая людям помянуть тебя добрым словом»…
Это были ее последние слова…
— С великой радостью помогу я тебе, старче, довершить начатое тобою благое дело…
— Я хочу освятить храм в день праздника Успения,— сказал старик, преодолев, наконец, свое волнение,— не сделаешь ли ты, отче, икону к тому времени?
— Хорошо,— ответил, подумав, Алипий,— к празднику будет икона на месте.
Через несколько дней после встречи со стариком, заказавшим ему икону Успения, Алипий занемог и вскоре почувствовал приближение смерти. Болезнь все усиливалась; он не мог подняться с постели, не мог больше работать. Наступил канун праздника Успения.
Бледный, больной лежал Алипий на своей жесткой постели. В дверь кельи кто-то вошел. То был старик, заказавший икону Успения. При виде доски, на которой едва была начата икона, старика охватило отчаяние.
— Отче, за что, за что наказал ты меня? Вижу, ты болен, не в силах сам писать… Но почему не предупредил меня? Я мог заказать икону другому иконописцу… Весь праздник теперь для меня пропал! О отче, как это жестоко!..
С грустью смотрел на старика Алипий.
— Не печалься,— чуть слышно проговорил он.— Господь милостив.
Старик вышел из кельи, и Алипий остался один, с молитвой на устах.
Было тихо, тихо. Сумерки спускались на землю и придавали всему какую-то таинственность…
Алипий впал в легкую дремоту. И вдруг, показалось ему, что дверь кельи неслышно отворилась, и вся комната наполнилась ярким светом. И видит Алипий сквозь сон, что в келью вошел юноша в ослепительно белой одежде. Его дивное лицо светилось лучезарным светом, на устах играла улыбка, а глубокие задумчивые глаза с любовью, ласково смотрели на Алипия.
Неслышными шагами подошел чудный гость к доске с начатой Алипием иконой, взял кисть и быстро стал писать лики святых…
«Кто это,— думает Алипий,— верно, старик прислал своего иконописца докончить мою работу. Как он прекрасен! Но откуда же такой свет, такое сияние его лица? Что за необыкновенная быстрота и совершенство его дивной работы!»
И вдруг стало ясно Алипию, что это не простой человек, а небесный посланник… Сон отлетел от глаз старца: с изумлением и восторгом стал следить Алипий за работой неземного иконописца.
Еще один последний мазок, и икона окончена! Чистая, непорочная Дева — Богоматерь, с невыразимой небесной благостью и любовью глядит с иконы на болящего старца: окруженная сонмом ангелов, поднимается Она на небеса и точно благословляет Алипия… Лучезарный свет все сильнее и сильнее озаряет келью… Через силу поднялся Алипий с постели и с просветленной ликующей душой припал к подножию иконы…
Свет померк. Ангела сразу не стало, не стало и иконы; лишь оставшаяся пустая подставка, на которой стояла икона, да свежие разведенные краски свидетельствовали Алипию, что не во сне, а наяву все произошло…
С грустью возвратился старик домой, тоскливо было у него на душе: икона, о которой он так мечтал, в честь которой была построена церковь, икона праздника Успения Богоматери не была окончена, не была на месте.
Всю ночь старик провел без сна, в горьких размышлениях, как бы помочь горю, и не видел исхода из своего печального положения. Наутро пошел в церковь, чтобы сделать последние приготовления к освящению храма, отложить которое было невозможно.
Грустный вошел старец в церковь и старался не смотреть на пустое место, приготовленное для иконы… Но вдруг он нечаянно взглянул туда, и невольный трепет охватил его: на приготовленном месте стояла дивно написанная икона. С горячей благодарственной молитвой обратился бесконечно счастливый старик к Богу.
«Но как, когда, кто принес сюда эту икону,— думал старик,— «еще вчера вечером заходил я сюда, и иконы не было». Он позвал сторожа, рабочих, расспрашивал их, но оказалось, что никто не видел, кто и когда принес и поставил икону.
Окончив хлопоты, старик через день направился в Лавру, чтобы поблагодарить Алипия за написание чудной иконы. По пути он зашел к игумену, но не застал его дома. Послушник объяснил, что брат Алипий при смерти и игумен у него.
Старик поспешил в келью Алипия.
Дверь в келью была отворена. Несколько монахов стояло у входа. Августовское солнце своими не палящими и не жгучими, а кроткими, мягкими лучами озаряло келью.
В углу, на жесткой постели, с закрытыми глазами лежал Алипий. Его бледное осунувшееся лицо, тонкие, словно восковые, беспомощно лежавшие руки, порывистое, несколько хриплое, дыхание ясно свидетельствовали о близости смерти…
У изголовья постели, перед киотом, стоял изможденный старец-схимник и слабым, прерывающимся от дряхлости голосом, читал трогательные и величественные молитвы на исход души. В ногах постели Алипия наклонился игумен. Слезы светились на его старческих очах… Монахи, столпившиеся у дверей, с благоговением и грустью смотрели на умирающего и молились.
Старик бросился к постели умирающего. С плачем, целуя худую, почти прозрачную, бессильную руку Алипия, он молча благодарил больного…
— Не меня благодари, сын мой,— вдруг послышался тихий голос умирающего,— Господь наш послал Ангела Своего докончить мою работу…
В ту же минуту бледное лицо Алипия преобразилось от какого-то дивного света… В глазах засветился тихий огонь, улыбка полуоткрыла коченеющие уста. Он вдруг поднялся на своем ложе и, протягивая руки к кому-то ему одному видимому, громко прошептал:
— Вот он, мой небесный гость! Я вижу его, он пришел за мною…
С этими словами иконописец бессильно опустился на постель, глаза потухли, спокойное выражение тихой ликующей радости озарило его лицо, и он скончался.
С великой честью погребли иноки тело почившего в пещере преподобного Антония, где мощи святого Алипия находятся до настоящего дня,
Тихая, теплая летняя ночь окутала своим темным покровом землю, только звезды, эти очи неба, задумчиво светили где-то высоко, высоко.
Затих Киево-Печерский монастырь. Утомленные дневными трудами и молитвами за продолжительными церковными службами иноки предались сну.
Еще час, другой — и звон колокола разбудит их, снова призывая в церковь. Опять начнется день молитвы и труда.
Только в немногих кельях, при мерцающем свете лампады, стоят еще на молитве старцы-монахи и кладут земные поклоны, да в деревянном домишке, приютившемся в монастыре у самых ворот, виден яркий свет. Это монастырская просфорная,
Иноки Спиридон и Никодим несут здесь свое послушание — пекут просфоры для обители. Тяжела эта работа и недаром игумен приставил к ней Спиридона и Никодима, иноков благочестивой жизни, трудолюбивых и аккуратных.
Раньше обычного началась сегодня работа в просфорной. Инок Никодим болен, и отцу Спиридону надо торопиться, чтобы одному справиться с двойной работой и вовремя приготовить просфоры.
Истомленный инок вышел из кельи за дровами; вышел и остановился у порога. Величавое молчанье ночи, мириады звезд, все это поразило душу монаха, наполнило ее благоговением к Творцу всего — Богу, и слова хвалебных псалмов Давида полились из уст старца.
Крестьянин по происхождению, уже не молодой, пришел он в монастырь, ища спасения. Дни и ночи проводил он в молитве: неграмотный, со слов других, выучил наизусть всю Псалтирь и каждый день повторял ее. Пимен-постник, бывший тогда игуменом, обратил внимание на благочестивого старца и поручил ему печь просфоры, приносимые к Божественной литургии.
Старец недолго пробыл вне кельи. Через несколько минут он с тяжелой ношей вернулся обратно, подкинул в печь дрова и, тщательно вымыв руки,
совершив молитву, с пением псалмов начал делать просфоры, помышляя со страхом Божиим, что труд его есть приготовление чистой и непорочной бескровной жертвы, приносимой за Литургией.
Вдруг от жарко разгоревшейся печки вспыхнула крыша домика.
Старец не растерялся. Он схватил свою мантию и закрыл ею устье печки, затем быстро сбросил с себя власяницу и, завязав рукава, побежал с нею к колодцу за водой.
Привратник, увидев пламя, бросился к колокольне. Порывистый беспорядочный звон колокола разбудил братию.
Торопливо выбегали из своих келий иноки, спешили на помощь старцу.
И дивное чудо увидела братия: не сгорела мантия, которой святой старец закрыл устье печки, и не вытекла из власяницы вода, которой он гасил пламя.
Старец Феодосии, игумен Киево-Печерской Лавры, возвращался из храма после обедни в свою келью. Он шел по широкому монастырскому двору, озаренному ярким весенним солнцем.
Здесь и там стояли иноки; день был праздничный, братия отдыхала от трудов, совершенных за неделю.
— Какая благодать, отец Паисий! — молвил Феодосии, останавливаясь перед стариком-монахом.— Невольно охватывает душу восторг при виде этого яркого солнца, распускающихся деревьев! Слава Творцу!
— А погода-то какая! Пасха будет ясная! — отвечал отец Паисий.
К игумену подошел священник, невысокого роста, в ветхой рясе, поношенной камилавке,
— Я к тебе, отче, с большой просьбой,— обратился он к игумену.
— Говори, брат, чем могу послужить тебе?
— Не одолжишь ли мне, отче, вина? Все вышло у меня завтра обедню не могу служить…
— С радостью, с радостью,— сказал Феодосии,— отец Паисий, пришли ко мне брата Сергия; пойдем ко мне в келью,— обратился он к священнику.
Отец Паисий поспешно направился к келье отца эконома,
Отец Сергий, высокий молодой монах, со строгим, несколько суровым лицом, сидел в своей келье, разбирая просфоры, только что принесенные из церкви.
— Тебя зовет игумен,— сказал отец Паисий, обращаясь к иноку.
— Сейчас иду,— отвечал отец Сергий.
Он сложил просфоры в глубокую корзину и вышел. Когда отец Сергий вошел в келью игумена, Феодосии беседовал со священником.
— Брат Сергий,— обратился игумен к вошедшему,— вот отец Василий пришел просить у нас вина для совершения Литургии, будь добр, налей полную тыкву и принеси…
— С радостью исполнил бы твою просьбу, отче,— отвечал инок,— но, к сожалению, не могу: у нас у самих осталось так мало вина, что едва хватит на три службы.
— Все равно, брат, отлей.
— Но, отче, как же мы сами будем совершать завтра Литургию?
— Нам Господь подаст,— отвечал Феодосии,— вспомни, как учил нас Христос…
Вспомни Его Нагорную проповедь… «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы»… (Евангелие от Матфея, гл. 6.ст. 34.)
— Пусть будет по слову твоему, отче,— отвечал отец Сергий,— но не я буду виноват, если завтра не будет в обители Литургии.
— Не бойся, брат, Бог нам поможет.
Отец Сергий вышел и через несколько минут вернулся с большой выдолбленной тыквой и сосудом с вином.
Он поставил тыкву на стол и осторожно начал переливать вино. Вскоре тыква почти наполнилась, в сосуде оставалось немного вина. Отец Сергий остановился.
— Лей все,— сказал игумен,— уж немного осталось.
Отец Сергий вздохнул и вылил все, до капли.
— Спасибо,— обратился к нему игумен,— не тужи; помни: нам Бог поможет.
Отец Сергий вышел.
Весь день прошел для отца Сергия в заботах и хлопотах. На нем лежала ответственность за всю хозяйственную жизнь обители. Весь день думал отец Сергий о том, что на завтра нет ни капли вина для Литургии. Послать в город за вином не было никакой возможности — день был праздничный: все лавки закрыты.
— Завтра чуть свет съезжу в соседнее село, может быть там достану,— думал инок, но эта мысль не утешала его.
День клонился к вечеру.
Вернулись от всенощной.
В оконцах замигали огоньки, братия разошлась по своим кельям.
Отец Сергий пошел в монастырскую кладовую, чтобы выдать пекарям муку на завтрашний день.
— Просфоры сегодня хороши были,— говорил он послушнику,— постарайся, брат, и завтра так спечь. Труды Богу угодны!
В комнату поспешно вошел молодой инок.
— Отец Сергий! Я тебя по всей обители ищу! Иди скорей! От князя в монастырь три подводы привезли. Некому принять: отец игумен отдыхает.
— Подождите здесь, братья,— обратился отец Сергий к инокам-пекарям,— я скоро вернусь.
И он поспешно вышел из комнаты.
На монастырском дворе у ворот стояли три подводы, покрытые рогожей.
Когда отец Сергий приблизился к ним, к нему подошел княжий управитель и сказал:
— Князь-батюшка вам, инокам, челом бьет и лепту шлет. Молитесь о его здравии.
— Мы князя неустанно в молитвах поминаем,— отвечал отец Сергий,— передай князю земной поклон от нас. Отца игумена не буду беспокоить — он утомился после службы. С чем подводы?..
— Князю,— отвечал посланный,— хан из Крыма подарок прислал, князь с вами поделиться захотел: для Литургии вина шлет обители.
Отец Сергий вздрогнул, на глазах показались слезы. Он трижды перекрестился.
Так вот как помогает Господь надеющимся на Него! — мелькнуло у него в голове.— Боже! Почему нет у меня такой веры, как у отца Феодосия?»
— Благодарю Тебя, Христе Боже! — громко промолвил отец Сергий.— Ведите сюда подводы,— обратился он к посланным, направляясь к погребу.
Поздно вечером зашел отец Сергий в келью отца Феодосия. Старец читал Евангелие перед зажженной лампадой.
— Отец Сергий,— обратился к нему игумен,— мне тяжело было видеть, как мало веры в тебе к Господу. Разве ты не веришь словам Спасителя?
Вместо ответа инок опустился на колени перед старцем.
— Верю, отче,— дрогнувшим голосом сказал он,— Господь благоволил научить меня крепкой вере в Его благость.
И он рассказал старцу, что князь совершенно неожиданно прислал для обители вина.
По мере того, как отец Сергий говорил, лицо игумена озарялось улыбкой. Когда инок умолк, старец обнял его и сказал;
— Хвала всемогущему Богу! Верь, что Он никогда не оставит человека, возлагающего на Него надежду и веру!
В Киево-Печерской Лавре жили два инока, которые горячо любили друг друга,— Тит и Евагрий. Но случилось, что они поссорились и с тех пор из друзей стали врагами. Напрасно братия старались примирить их, иноки не хотели никого слушать, и злоба их росла с каждым днем.
Однажды Тит захворал.
Злой недуг сильно поразил его, и силы инока заметно слабели. Братия уже отчаивалась видеть его выздоровевшим; кончину Тита ждали с часу на час.
В один день, когда Тит чувствовал себя особенно плохо, он сказал брату, сидевшему у его изголовья:
— Брат! Вижу, как силы меня покидают, но не хочу идти к престолу Всевышнего со злобой на брата. Позови Евагрия, я хочу примириться с ним…
Инок побежал к Евагрию и сообщил ему просьбу умирающего.
Но Евагрий отказался идти.
Долго уговаривали иноки Евагрия пойти к Титу, он все упирался. Тогда иноки силой привлекли его в келью Тита.
При виде Евагрия, больной, собрав последние силы, встал с одра и, склонившись на колени, стал молить Евагрия простить его,
— Отпусти мне грех мой,— говорил больной,— не допусти душу мою отягощенной злобой вознестись на Суд Божий… Я виноват пред тобой…
Но лицо Евагрия было сурово и злобно. Он с гневом смотрел на Тита и, когда тот кончил говорить, грозно вскричал:
— Нет! Я не прощу тебя! Не прощу тебе обиды, которую ты мне причинил! Ни в сей, ни в будущей жизни не хочу с тобой примириться!..
Евагрий вырвался из рук братии и пал на землю. Иноки бросились поднимать его, но, едва прикоснувшись к Евагрию, в ужасе отступили. Евагрий был мертв.
I
Тихо, тихо в тереме князя Давида.
Тяжелые занавеси закрывают высокие оконца, солнечный свет едва проникает в покой, здесь царит полумрак.
На высокой дубовой постели, на мягкой пуховой перине лежит молодой князь — красавец Давид. Длинные темно-русые кудри обрамляют бледное лицо князя, глубоко впали темные очи, резко выделяется густая борода. Князь Давид тяжко болен, уже несколько недель лежит он в постели. Куда девалась молодецкая сила, молодая веселость?!.
В углу, перед образами, теплится лампада, в тереме тишина…
Вот скрипнула дверь, больной слегка повернул голову к двери.
Вошла старушка в темном сарафане и высокой кике (Женский головной убор типа кокошника.). Это мамушка князя.
Тихо подошла старушка к постели больного, заботливо оправила сбившуюся подушку.
— Что, княже, как почивал?
— Спасибо, мама, не знаю… как-то тяжело мне, не то сплю, не то нет…
— Не откушаешь ли чего, соколик?
— Нет… не томи…
Старушка умолкает и садится у изголовья больного. Тяжело князю Давиду, точно свинцовые смыкаются веки,— все спал бы да спал, а сна нет.
— А я к тебе, княже, по делу пришла,— говорит старушка Кондратьевна,— надумала я, как тебе, батюшка, в твоей болезни пособить… Велишь, что ль, сказать?..
— Говори, мама,— нетерпеливо отвечает молодой князь,— знаешь, так говори…
— Есть у меня, соколик, племянница, пчельника дочка,— Евфросинией звать. И впрямь чудная девушка! Смирная, тихая, а знает такие дела, о которых другая и не слышала. Каждую травку умеет назвать, да это еще что! — каждый цветочек, листочек, все,— говорит,— человека исцеляет от недуга; надо только знать, когда какую травку попить, или каким соком натереть… И это все она знает. Ее один старик пчельник научил… Умный был старик; бывало, сестра чуть занеможет, он ей травки, или корешок какой даст — смотришь — здоровехонька… Так вот, княже, не дозволишь ли ей тебя полечить?
Равнодушно слушает князь слова старухи. Сначала, было, мелькнула у него мысль, а что как и в самом деле вылечит дочь пчельника его болезнь, но тотчас эта мысль и исчезла.
— Где уж девушке вылечить меня,— грустно думает князь,— все знахари и знахарки перебывали у меня, все снадобья поперепробовал, а облегченья все нет; здоровье, силы уходят. Еще месяц, другой,— и смерть настанет, положат меня в гроб, в землю зароют.
Ужас охватывает князя при этой мысли, хочет он отогнать ее от себя, забыть, да нет, не хочет уходить из головы роковая мысль.— Так что ж, мой соколик, привести племянницу-то? — спрашивает, наконец, старуха, дотрагиваясь до плеча князя.
Князь оторвался от своей тяжелой думы.
— Веди… да, ведь, не поможет; скоро умру я…
— Христос с тобою, княже, зачем так думать, только Бога гневишь. Молись Ему, Он все может. Он, Спаситель наш…
— Ну веди, веди племянницу, мама,— перебил князь Кондратьевну,— тяжело мне, а ты своими словами только еще тяжелее делаешь…
— Прости меня, глупую,— бормочет старуха и мелкими старческими шажками торопливо исчезает из покоя.
Опять все тихо в тереме. Один остался князь Давид, черные думы повисли над ним. Он гонит их, старается не думать о болезни… о смерти. Смутная надежда зарождается в его душе.
— А почему не сможет меня вылечить девушка? Быть может, она знает какую-нибудь траву, неведомую другим, даст мне ее, я стану поправляться, силы придут, вернется здоровье, опять буду гонять девушка, лет девятнадцати. Две густые белокурые косы тяжело падали на ее плечи, ясные голубые глаза смотрели кротко и ласково; алые губы были полуоткрыты, за ними, как бисер, виднелись жемчужные зубы. Здоровый румянец покрывал смуглые от загара щеки Евфросинии, простой холщовый сарафан красиво облегал ее стройный стан.
— Подойди, Евфросиния, не стыдись — сказала старушка.
Девушка быстро взглянула на князя, густой румянец еще ярче заиграл на ее смуглых щеках.
Князь Давид словно во сне смотрел на гостью и не мог налюбоваться ее красотой. Он даже приподнялся на постели, но острая, невыносимая боль в боку напомнила о болезни, князь не в силах был удержаться, застонал и упал на подушки.
— Вылечи меня, девица,— с трудом проговорил князь,— избавь меня от злого недуга,— и… ты моей женой будешь!..
— Что ты, что ты, княже! — испуганно вскрикнула Кондратьевна,— Господь с тобой! Или бредишь? Где ей княгиней быть? Видишь — боса.
— Молчи, старая, что я сказал, то будет. Не бойся, красавица, вылечи меня и будешь княгиней.
II
Со следующего дня Евфросиния стала лечить молодого князя. Каждый день приходила она в княжеский терем, поила князя какой-то травой, натирала пахучей мазью. И силы стали заметно возвращаться к князю Давиду. Едва прошло две недели, как он встал с постели и ходил по терему, еще через неделю вышел в сад, а там и на коня вскочил.
Вылечила князя Евфросиния, и князь исполнил свое обещание — стала она княгиней.
Уже два месяца княжит после смерти брата князь Давид в Муроме. Всем хорош муромский князь, да недовольны муромские бояре молодой княгиней Евфросинией. И рода она не знатного, а княгиня! Муромские боярыни гораздо знатнее ее родом, а должны почитать ее. Молодая княгиня и не похожа совсем на княгиню: тихая, скромная, боязливая, никогда строгого слова никому не скажет.
Думали, думали муромцы и порешили, что не могут их знатные жены унижаться перед простолюдинкой; положили они просить князя Давида заключить ее в монастырь, а себе другую жену взять из знатного рода.
Задумано, сделано.
Пришли муромские бояре в княжеский терем и сказали князю Давиду:
— Или отпусти, княже, княгиню Евфросинию в монастырь, или уходи из Мурома, а мы себе другого князя искать будем,
Сумрачный ходит взад и вперед князь Давид по своему большому терему. Как молнии загораются его черные очи, крепко сдвинулись соболиные брови, бледен князь,— видно, тяжелую думает думу.
Никто не смеет войти в княжеский терем, знают, что в такое время князь Давид страшнее грозы.
Не один раз прошел он взад и вперед свой терем; то и дело поскрипывают дорогие сафьяновые сапоги, мягкий пушистый заморский ковер скрывает шум нетерпеливых шагов князя.
— Уйти или отпустить Евфросинию? — в сотый раз спрашивает себя князь Давид.— Отказаться от Мурома — отказаться от княжения. Кто позовет меня княжить, зная, что муромцы мне путь показали? А и княгиню жаль. Тихая она, ласковая… Как быть, как поступить, чтобы потом не раскаиваться? Уйду я из Мурома и буду изгоем… Чем буду жить? Не будет у меня этих хором, не будет челяди, коней, почета — все потеряно… и для чего? Чтобы осталась со мной жена?
А, ведь, правду сказать, какая она княгиня? Каждая боярыня может ее обидеть, а она слова не ответит; уж больно смирна!.. Пожалуй, лучше отпустить княгиню… скажу ей, что муромцы требуют от меня этого… она тихая, ничего не скажет, а я найду себе княгиню. Евфросиния голубка, а мне орлицу надо!..
И воображению молодого князя уже начинает рисоваться его будущая жена. Князь старается гнать от себя эти мысли, но напрасно,— они все сильнее и сильнее овладевают им. И князь, забыв о настоящем, отдается мечтам.
В дверь тихо постучали.
Недовольный, что ему помешали, князь сдвинул брови.
— Кто там? Чего надо? — крикнул он.
— Дозволь, князь-господин…— послышался тихий голос молодой княгини.
«Евфросиния! Зачем?» — пронеслось в голове князя.
— Войди,— сказал он громко и открыл дверь.
Княгиня вошла.
Никто не узнал бы в ней прежнюю Евфросинию. Богатый княжеский наряд дивно хорошо шел к ней. На ней был длинный белый атласный сарафан, весь шитый жемчугом. Высокий кокошник с длинными спускающимися на белый чистый лоб подвесами точно подчеркивал красоту княгини. Полуоткрытая широкая кисейная рубашка красивыми складками выбивалась из-под сарафана, богатое ожерелье лежало на точеной белоснежной шее. Легкий румянец волнения покрывал ее бледные щеки.
Князь Давид остановился в изумлении. Ему бросилась в глаза красота жены, точно в первый раз видел ее.
«Да какая же она красавица»,— подумал он. А княгиня, вся светлая, как майский день, тихо подошла к нему и сказала своим мягким голосом;
— Не гневись, князь-господин, что помешала тебе…
— Зачем пожаловала? — спросил князь Давид.
— Я пришла… чтобы,— голос княгини дрогнул,— чтобы… просить тебя, князь, отпусти меня в монастырь!..
Князь Давид остановился как вкопанный. То, о чем он мечтал, показалось теперь ужасным.
— Тебя, в монастырь?.. Зачем?..— дрогнувшим голосом спросил он.
— Так надо… отпусти.
Ресницы княгини задрожали, и жгучие слезы крупными каплями потекли по ее щекам, а в сердце князя точно вливалось широкой струей чувство жалости и горячей любви к своей чистой, кроткой княгине; какие-то новые, неведомые струны зазвучали в его душе, он почувствовал, понял, что любит, безумно любит свою Евфросинию и ни за какие сокровища в мире не оставит ее. Все прошлое показалось князю каким-то чудовищным сном, чувство жгучего раскаяния охватило князя, мучительно больно стало ему при мысли, что лишь несколько минут тому назад он почти решил отправить свою жену в монастырь и взять себе другую.
— Что ты, женушка, тебя в монастырь! — горячо проговорил князь Давид.— Зачем? Разве тебе нехорошо у меня, разве я мало балую тебя?,. Скажи, почему… Тебе, верно, наговорили?.. Сядь, расскажи, моя голубка; ну, не плачь… посмотри на меня, моя радость…
Князь привлек ее к себе и обнял.
— Дорогая моя, ненаглядная, прости… Я виноват пред тобою, прости меня, из-за меня тебе так тяжело, ты так мучаешься… Знай же теперь, Евфросиния,— вдруг громко сказал князь и выпрямился; глаза его загорелись, в них виднелась непреодолимая сила воли,— знай же, моя жена перед Богом, что я сам хотел отпустить тебя в монастырь, пока был слеп. Благодарю Бога, что Он прислал тебя ко мне теперь; сейчас лишь я понял, что ты мне не только жена по названию, но жена по сердцу, любимая… Прости, что я согрешил пред тобою. Теперь мое решение неизменно: если не хотят тебя муромцы, я уйду из Мурома вместе с тобою…
Князь Давид встал и порывисто обнял княгиню, а она все плакала, но уже не горькими слезами, а слезами тихой радости и любви.
— Эй, кто-нибудь! — крикнул князь Давид, ударяя в ладоши.
В дверях тотчас показался седой старик — постельничий князя.
— Что, Евсеич, приходили бояре? — спросил его князь
— И посейчас ждут тебя, княже, в большой палате…
— Так вот им ответ мой: Бог сочетал меня неразрывными узами с княгиней Евфросинией, а что Бог сочетал, негоже человеку расторгать. Не хотят бояре княгини, без нее и я им не князь!
Прошло три месяца. Был июль.
Верстах в тридцати от Мурома, среди леса, на небольшой полянке стоял невысокий домик в несколько окошек; крыша низко спускалась над оконцами, небольшое крылечко выходило в маленький садик, окружавший домик. За палисадником виднелись колоды с ульями,
Высокие подсолнечники горделиво поднимались под окнами, их яркие головки горели на солнце; несколько гряд, засаженных огурцами и капустой, виднелись тут же, вблизи.
Было утро.
На крылечке домика показалась молодая женщина в белом простом летнике, в лаптях, на голове ее была холщовая повязка.
Женщина держала в руках большую глиняную миску. Сойдя с крыльца, она направилась в пчельник. Ароматный запах меда чувствовался здесь. Подойдя к первому улью, женщина умело вынула соты, пчелки спокойно смотрели на ее работу,— они целым роем летали над головой женщины, садились на ее руки, шею, но не жалили ее; видно, не первый раз приходила она сюда. Обойдя все ульи и собрав меду полную миску, молодая пчельница направилась к домику.
— Здравствуй, княгинюшка,— послышалось за нею. Она обернулась. В нескольких шагах стояла старушка Кондратьевна.
— Здравствуй, родная,— ответила княгиня,— что, встал князь Давид?
— И, матушка, еще спит касатик, это ты, как пташка, с солнышком встаешь.
Они вошли в домик. В углу просторной комнаты с двумя оконцами висела большая божница с иконами, по стенам шли лавки, перед ними стол, покрытый чистой белой скатертью.
Три месяца уже живет князь Давид со своей молодой женой в этом небольшом домике; сюда ушел он, отказавшись от княжения. Вместе с ним поселились его верные люди Евсеич и Кондратьевна.
Трудно было князю жить здесь, в простой избе, после пышных княжеских хором. Молодая княгиня всеми силами старалась облегчить князю пребывание в этой незнакомой ему раньше обстановке, но все же князю было тяжело, он часто с грустью вспоминал о былом, но в своем поступке не раскаивался.
Войдя в комнату, княгиня поставила на стол миску с медом, молоко и чернику; из большого поставца достала хлеб, нарезала его большими ломтями.
Дверь из соседней комнаты отворилась, и на пороге показался князь. Глубокая складка — след частых грустных размышлений — резко вырисовывалась между его бровями. Князь взглянул на жену, и лицо его озарилось улыбкой.
— Добрый день, моя пташечка,— сказал он, целуя княгиню,— опять поднялась чуть свет?!
— Здравствуй, князь, как спал-почивал?
— Спал хорошо, слава Богу,— отвечал князь,— а странный под утро сон видел. Вижу это я, что в Муроме мы с тобой, в соборе… праздник какой-то, нас князем и княгиней величают. Я говорю, ведь вы нас прогнали, какой же я вам князь, а они говорят: полно, князь, что было, то прошло… Тут я и проснулся.
Княгиня молча слушала мужа. Князь часто видел такие сны, и она знала, как эти сны мучили его.
Князь Давид сел к столу и принялся за еду. Княгиня тоже подсела к столу.
— А славный у тебя мед, Евфросиньюшка,— заметил князь,— нигде я не едал такого, ты мастерица у меня за пчелами смотреть.
В эту минуту вбежал в комнату старик Евсеич. Он сильно запыхался и едва мог говорить.
— Князь… бояре… к нам едут, уж близко они… Княгиня быстро встала. Смертельная бледность, покрыла ее щеки.
— Бояре?!.— взволнованно спросил князь.
— Едут, княже, сам видел…
Вблизи послышался конский топот, и к крыльцу подъехало несколько всадников. Все они были в богатых праздничных кафтанах.
Князь взглянул в окошко и узнал муромских бояр. Они уже слезали с коней и всходили на крыльцо.
Не успел князь Давид сделать шага, как бояре вошли в светлицу. Впереди них шел старый муромский княжий наместник, за ним человек двенадцать знатнейших бояр. Войдя в комнату, они бросились на колени.
— Мы к тебе, княже,— заговорил старик-наместник,— не вели казнить, вели слово молвить.
— Говори,— сказал князь Давид,— я и сам хотел вас спросить, зачем ко мне пожаловали? Или опять что-нибудь неугодное вам совершил?
Легкая едва заметная насмешка слышалась в словах князя. Он сразу понял, зачем приехали бояре.
— Смилуйся, княже,— заговорили разом бояре,— вернись в Муром князем, без тебя не можем ладить, все у нас нелады и ссоры.
— Князем? Чтобы через несколько месяцев вы снова прогнали меня?.
— Не гневись, князь,— ответил старик-боярин,— ведь мы тобой всегда довольны были, а коли что было, так из-за княгини твоей…
— А, коли так,— сказал князь, грозно сверкнув очами,— то ее и просите вернуться к вам. Без нее я к вам не вернусь, а захочет ли она к вам вернуться, не знаю…
Бояре смутились. Многого хотел от них князь… Им, природным боярам, с поклоном к простолюдинке идти?! Да делать нечего, без князя того и гляди совсем Муром погибнет, и так сколько беды пережили они за это время,— не нашли себе князя, а только беды нажили. Подумали, пошептались посланные и поклонились княгине.
— Не помни обиду, вернись к нам княгиней… Сильно билось сердце в груди княгини… Легкий румянец залил ее щеки; робко взглянула она на князя. Он весело улыбался ей.
— Я всюду пойду за моим князем,— твердо сказала княгиня.
Многие годы княжил князь Давид в Муроме; правление его было мудрым и справедливым, и во всем помогала ему советом кроткая княгиня Евфросиния.
Вскоре после возвращения князя Давида в Муром полюбили муромцы молодую княгиню. Да и было за что. Всем княгиня была матерью, со всеми обходилась ласково и кротко, заботилась о сиротах, навещала больных и убогих, принимала странных людей. Никто никогда не видел от нее обиды, не слыхал неласкового слова.
До глубокой старости дожили князь и княгиня муромские и незадолго перед смертью приняли монашество, князь — с именем Петра, княгиня — с именем Февронии. Скончались они на Пасхальной неделе и были погребены, как завещали, в одном гробу.
Стоял морозный ноябрьский вечер. Приближалась ночь, и тьма все больше и больше окутывала своим таинственным покровом раскинувшийся по горам и в оврагах Смоленск.
На улицах, за поздним часом, не было видно людей, лишь временами мелькали темные фигуры и снова становилось пусто. Но жители Смоленска не предавались отдыху после тяжелого трудового дня. Прискакавший к князю поутру гонец привез страшную весть: татары взяли Чернигов и через несколько дней их надо ждать под Смоленском.
Шел 1237 год. В народной памяти еще живы были ужасы недавнего нашествия татар, хорошо помнили смоляне их грозную беспощадную расправу, со страхом думали они о предстоявших бедствиях.
На городской стене стояла стража. Еще не знали точно, как далеко враги, но страшные опасения заставляли смолян на всякий случай принять надлежащие меры для охраны и защиты города. Татары могли внезапно явиться под стенами: они совершали в день громадные переходы, их выносливые степные кони не знали устали.
Тихо в Смоленске…
Лишь изредка громко и протяжно перекликаются часовые на стенах города. Тяжело и жутко становится на душе от их заунывного: «слуша-а-а-а-ай…» Далеко, долго звучит в горах последний звук, но вот и он замер” и снова все тихо, тихо…
Соборный сторож Михеич мерными старческими шагами обходит вокруг храма. Стар стал Михеич; бывало, прежде несколько раз за ночь обойдет собор и ничего, а теперь вот едва ноги держат, болят старческие кости, тяжело старику.
Но что это?
Старик вдруг остановился и стал всматриваться в высокое темное окно собора.
Да, там свет… перед иконой Богоматери… Неужели он, Михеич, забыл загасить свечу на ночь? Неужели уж так стар стал? Однако нет, Михеич хорошо помнит, что загасил все, уходя из храма, да к тому же, разве маленькая восковая свечка может давать столько света, что и старые слабые глаза Михеича увидали?,.
Торопливыми неровными шагами стал подниматься сторож по ступеням соборной паперти; достал ключ, висевший у него на поясе под тулупом, затеплил восковой огарок в старом деревянном фонаре и отпер дверь.
В храме стояла таинственная тишина. Глухо отдавались шаги Михеича под сводами собора; со стен сурово смотрели на него темные лики святых; вот повернул Михеич за колонну и замер. От чудотворной иконы Богоматери, стоявшей за правым клиросом, лился мягкий, но яркий свет. Весь лик Пресвятой Девы был, казалось, соткан из света. Ее задумчивые глаза ласково смотрели на старика.
В умилении и трепете преклонился Михеич перед дивной иконой, старческим лбом коснулся холодного камня, и вдруг ему, точно издалека, послышался тихий голос:
«Иди к рабу Моему Меркурию, что живет под горой против обители Моей, и скажи, что Я зову его на подвиг, для которого привела его на Русь. Не стучи в ворота, он ждет тебя на дворе; подойди лишь к калитке и скажи тихо Мое повеление. Спеши!..»
Словно во сне поднялся Михеич с полу, точно юношеские силы появились у него, и он бодрыми шагами быстро вышел из храма и стал спускаться к подножию горы, на которой стоял собор.
Вот Михеич и внизу, вот и домик с запертыми воротами. Тихо позвал старик: “Раб Божий Меркурий, Владычица зовет тебя на подвиг!..”
И в ту же минуту ворота открылись и перед изумленным сторожем предстал юноша в воинской одежде, с мечом в руке.
Прекрасное лицо воина сияло радостью; высокий, стройный, полный сил и мужества, он был дивно хорош. Горделивая осанка и открытый взгляд глубоких ясных глаз свидетельствовали о его высоком происхождении. Римлянин родом он исповедовал православную веру и вот уже несколько лет, как пришел на Русь и поступил на службу к Смоленскому князю.
— Идем! — ответил юноша Михеичу, и оба они стали подниматься на гору, по направлению к собору.
Вот они вошли в храм. В восторге преклонил Меркурий колена пред иконой Богоматери и дивный голос послышался ему:
— Угодник Мой Меркурий! Посылаю тебя оградить дом Мой; для сего и призвала тебя на землю Русскую. Властитель ордынский втайне хочет наутро напасть на град Мой со всей своей ратью и сильным исполином, чтобы опустошить град. Но Я не презрела селения Моего и умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, да не предаст его в руки варваров на разграбление. Никто из смолян не знает, как близко враги, и ты иди, втайне от народа, святителя и князя, на «Долгий мост». Оттуда готовится брань и там, силою Христа Бога, победишь исполина и рассеешь врагов. Сама Я буду с тобою, помогу тебе, раб Мой; но там, вместе с победою, ожидает тебя венец мучения, который примешь от Христа Спасителя, ибо ты кровию запечатлеешь свой подвиг.
В священном трепете внимал Меркурий словам Владычицы. С умилением просил Ее не оставить его, не лишить вечной славы и блаженства в будущей жизни. Потом бодро встал и с великою радостью поспешил на подвиг, к которому звала его Святая Дева.
II
Местность «Долгий мост» находилась в четырнадцати верстах от Смоленска. Здесь расположились станом татары, ожидая рассвета, чтобы напасть на Смоленск.
Была глухая ночь. Костры давно погасли. Люди безмятежно спали в ожидании битвы. Спать можно было спокойно, не опасаясь нападения смолян, так как в городе и не подозревали о столь близком соседе-враге.
Незаметно вышел Меркурий из города и направился к «Долгому мосту». Незаметно прошел он расстояние, отделявшее город от татар. Вот показался татарский лагерь. Все спит, даже стража.
У самой дороги, подложив под себя медвежью шкуру, спит татарский предводитель-исполин. Громадный рост и богатырское сложение выделяют его среди всех.
Тихо подошел к нему Меркурий, одним ударом отсек великану голову и начал разить татар. Лагерь проснулся. Крики ужаса и отчаяния слышались кругом. Скоро все были на ногах. Лишенные полководца, татары в смятении не знали, что делать… Врагов не было видно, а множество убитых лежало на земле. Страх пред невидимым врагом перешел в паническийужас.
— Горе нам! Горе нам! — вдруг вскричали татары.— Молниеносные мужи, в присутствии Светлой Жены, поражают нас! Бегите, бегите…
И все побежали.
Меркурий преследовал врагов, но усталость начала овладевать им. С пламенной молитвой обратился он к Святой Деве, благодаря Ее за победу, за дивную помощь, за спасение города.
Усталость и дремота все сильнее и сильнее одолевали Меркурия, и он тихо склонился на землю и заснул.
III
Татары наконец опомнились. Они увидели, что их никто не преследует; панический страх прошел. Немного уцелело татар, их разрозненные отряды стали собираться вместе.
В это время сын убитого великана набрел на уснувшего Меркурия и с размаха отсек ему голову.
Татары не решились идти на Смоленск и поспешно ушли из его пределов. Так, при помощи Богоматери, чудным подвигом святого Меркурия город был спасен от разгрома.
Между тем наутро, едва отзвонили к утрене, сторож Михеич поспешил к архиерею и рассказал ему о виденном и слышанном ночью в соборном храме. Епископ сообщил князю, и тот с дружиною отправился искать Меркурия или, по крайней мере, его тело. Долго искала дружина тело Меркурия и, наконец, нашла его в поле, среди множества тел убитых татар.
С великими почестями внесли смоляне тело своего избавителя в город и похоронили в соборе, за правым клиросом.
Много веков прошло с тех пор, много бедствий постигло за это время Смоленскую землю. Сколько раз попадала она в руки врагов и даже надолго отходила под власть Польши. Мощи святого Меркурия в это время исчезли бесследно, но железные башмаки и шлем, в которые был облечен, идя на подвиг, воин Меркурий, сохранились и доселе хранятся в Смоленском соборе. А в народе живет твердая вера, что настанет время и откроется, где сокрыты мощи святого защитника города Смоленска.
I
Светлое, радостное весеннее утро. Солнце ярко сияет в голубой выси небес.
В соборе, в Твери, только что отошла ранняя обедня. У дверей храма толпится народ. Люди ждут княгиню Анну. Каждый хочет взглянуть на нее, слышать ее тихий, ласковый голос, видеть ее светлую улыбку.
— Что-то замешкалась наша княгинюшка,— говорит старик нищий,— давно бы пора ей прийти.
— Видно, опять утешает вдовицу или сироту; никого не оставит в печали, каждому скажет доброе слово,— замечает другой.
— Пошли ей Бог счастья!
— Идет, идет! — проносится в толпе.
На паперти, в белом серебристом одеянии показалась княгиня Анна. Еще молодая, высокая, стройная, вся залитая солнцем, княгиня, казалось, сама вся светилась каким-то лучезарным светом.
Медленно стала спускаться княгиня по ступеням. За нею шли ее ближние боярыни.
Проходя между двумя сплошными стенами толпы, княгиня временами останавливалась, наклонялась к старику-нищему, ребенку или убогой старушке, подавала милостыню, ласково улыбалась и шла дальше.
Вот дошла княгиня до княжеских хором, взошла на высокое крыльцо, повернулась к толпе, поклонилась на все стороны и скрылась в сенях. Словно не замечая, прошла княгиня длинный ряд богатых покоев и вошла в свою светлицу,
Все здесь было скромно, но яркое весеннее солнце придавало всему какой-то веселый праздничный вид. По стенам стояли лавки, покрытые дорогими заморскими коврами, в дальнем углу белела высокая постель, с пышным кисейным пологом, у окна стояли большие резные пяльцы с натянутой канвой, по которой княгиня вышивала золотом «воздухи» (Покровцы для священных сосудов) для Тверского собора. В углу, перед иконами, теплилась лампада, и дрожащее пламя ее искрилось и играло разноцветными огнями на серебряных ризах и драгоценных каменьях икон.
Княгиня села за пяльцы и умелой рукой быстро начала вышивать мудреный узор.
Дверь скрипнула, и вошла боярыня. Она знала княгиню Анну еще малюткой, вскормила ее и вырастила, а когда Анна вышла замуж за Тверского князя Михаила, вместе с ней переехала из Кашина в Тверь.
— Что, моя ясная пташка,— заговорила боярыня,— не хочешь ли чего откушать?.. Прикажи, я в миг все приготовлю.
— Нет, родная,— отвечала княгиня,— спасибо, мне не хочется ничего… не до того.
— Что ты, что ты, моя красавица,— да разве возможное дело так изводить себя?! Взгляни, ведь на тебе лица нет. Где твой алый румянец? Словно мертвец!.. И что все сидишь да думаешь: дума сердце гложет… Если изводить себя будешь так, князь Михаил не узнает тебя, как вернется из Орды…
— Не вернется, не вернется он,— перебила ее княгиня, и жгучие слезы закапали из ее чудных очей.— Чует мое сердце, недоброе с ним случилось, не вернется он больше к нам.
— И-и… княгинюшка, чем по-пустому слезы лить, лучше помолилась бы за него.
— Я молюсь, родная…
— А молишься, так нечего и тужить. И приключилось с князем лихое (сохрани его от этого Господь и Пречистая Богородица!), так горевать не приходится; князь Михаил не злодей какой был, не осквернил души своей ни словом, ни делом, а сохранил ее чистой и непорочной перед Богом… Как ангел, светел он! Верю, голубка, что тяжело без милого дружка, да Бог милостив, авось и ничего с князем твоим не приключилось, здоровехонек себе, и ждет, когда женушку свою увидит…
— Нет, нет,— задумчиво повторила княгиня,— не говори так, не давай грешной душе моей надеяться на это… Дай привыкнуть к мысли, что нет больше Михаила в живых.
Опять княгиня одна, опять неотвязные мысли охватывают ее; она не может работать…
Облокотясь на окно, долго сидит она… И вот, прошлое начинает вставать перед ней. Видит себя Анна девочкой, в родном Кашине, в отцовском доме. Хорошо живется ей… Отец такой ласковый, добрый, так любит свою Аннушку.
— Аннушка,— говорит раз князь Дмитрий дочери,— Тверская княгиня Ксения сватов засылает, хочешь ли быть женой ее сына Михаила?
— Пусть будет по воле твоей, батюшка,— шепчет Анна…
А вот она уже в Твери, в соборе… Как радостно и весело у нее на душе! Будущее манит ее, все представляется ей таким светлым…
После венца княгиня Ксения благословляет новобрачных… «Любите друг друга, дети»,— слышится Анне тихий ласковый голос старой княгини.
«Далекое, счастливое время»,— думает с грустью княгиня Анна.
А мысль невольно снова возвращается к прошлому…
Год за годом проносится перед Анной… редкий не приносил ей горя… То страшный пожар опустошает Тверь, и Анна едва успевает спастись, то ужасная язва нападает на город. Глазам Анны представляются страшные картины страданий и смерти людей… То ужасная, чуть не смертельная, болезнь охватывает князя… Длинные бессонные ночи проводит Анна у его изголовья… А там князь Михаил отправляется в битву с грозными врагами..
— Много было горя,— думает Анна,— но ни одно не сравнится с нынешним… И Анна переносится мыслью на год назад…
Весело, радостно спешит она из церкви домой… Не успела войти Анна в сени, как навстречу ей идет князь Михаил. На лице его следы печали и горя. Он обнимает Анну и говорит:
— Прощай, Анна, видно пришло нам время расстаться… Хан зовет меня в Орду, и знаю — что уже не вернусь оттуда.
Жгучие слезы капают из светлых очей княгини, тяжело ей становится на душе… «А у него еще тяжелее», думает Анна, «не плакать, а ободрять, утешать его надо», проносится в ее голове…
И вдруг чувствует Анна в себе какую-то дивную силу и говорит ласковым, но твердым голосом:
— Не тужи, князь мой, без страха поезжай в Орду; Бог не оставит нас Своими милостями… Вспомни мать твою, княгиню Ксению, сколько раз учила она нас творить волю Всевышнего, покоряться Ему, надеяться и уповать на Него… Видно, Ему так угодно!
Наступил день отъезда князя в Орду. Он исповедывается и причащается Святых Тайн. Горько Анне в последний раз навсегда прощаться с дорогим, горячо любимым супругом, но всеми силами старается она сдержать свое горе, чтобы не доставить Михаилу новой печали… Князь благословляет сыновей:
— Помните, дети,— слышится Анне его голос,— мое последнее, заветное слово: свято блюдите веру Христову, почитайте мать, заботьтесь о ней…
Анна провожает князя до границ Тверского княжества…
— И вот уже целый год прошел, а о нем все нет весточки,— думает Анна,— как тоскливо тянется время!
Однообразно и скучно прошел этот год для княгини. Лишь в молитвах находила она отраду. День и ночь молится Анна за мужа; щедрой рукой творит она милостыню, утешает печальных, больных… А в сердце все одна тоска, одна дума в голове: что-то с князем?
Сидит Анна и так погрузилась в свои невеселые думы, что и не замечает, как над нею склонилась боярыня, а по дряхлым щекам старушки бегут слезы.
— Княгинюшка, голубка!..
— Родная?! Ты плачешь?..
— Прогневался, родимая, Господь на нас за грехи наши, тяжкие, наказал Он нас, горемычных!..
— Говори же, не томи, что случилось?
— Угасло наше красное солнышко, улетел от нас светлый ангел, остались мы сиротами неутешными… Поругались враги проклятые над нашим князем-соколом, не перенес, страдалец Христов, лютых мучений…
С ужасом начинает княгиня понимать страшный смысл этих зловещих слов… Знать, недаром предчувствовало ее сердце недоброе…
Печально и жалобно гудят колокола, перекликаются… Что-то тоскливое слышится в этом погребальном звоне…
От реки медленно потянулось к собору похоронное шествие. Впереди идут княжие отроки-певчие; грустно и протяжно раздается в воздухе пение погребальных молитв. За певчими следует духовенство в траурных облачениях… А вот и гроб с останками князя Михаила.
Князь Московский Юрий вернулся из Орды и привез тело князя Михаила. Княгиня Анна посылала в Москву послов с мольбой возвратить тверянам их усопшего князя, И вот, тело Михаила в Твери. Уже год, как умер князь Михаил; тело его не было погребено; знойное солнце палило, дожди падали на землю, разражались грозы, трескучий мороз сковывал все, а оно оставалось нетленным. Епископ Тверской решил в виду этого не предавать тело земле, а положить его в приделе собора.
За гробом, вся в черном, с длинным траурным покрывалом, следует княгиня Анна с детьми-княжичами. Огромная толпа народу, почти весь город, провожает тело любимого князя. Вот шествие приходит к собору…
Медленно и торжественно вносят гроб по ступеням на паперть… потом в церковь, и полагают его на высоком амвоне.
Начинается отпевание… Усердно молятся тверяне об упокоении души князя-страдальца, горячие молитвы возносят они к Богу, но усерднее и горячее всех молится княгиня Анна.
Стоя на коленях, с поднятыми к небу грустными глазами, Анна шепчет слова молитв… Она не плачет. Горе ее так велико, так глубоко затаилось оно в ее душе, что не может вырваться наружу… Нет в душе Анны больше надежды на счастье, со смертью князя Михаила погибло для нее все в земной жизни… Утешения жаждет Анна. А кто может утешить ее? Княжичи?! Они еще дети, им непонятно горе и отчаяние матери.
Вспоминается Анне княгиня Ксения… Вот, кто сумел бы ободрить, поддержать, утешить ласковым словом… Но она уж давно умерла… ей хорошо, она у Бога… А почему бы и Анне не оставить грешный суетный мир, почему не посвятить себя Богу…
Мало-помалу эта мысль все сильней захватывает Анну.
— Там, далеко от всего грешного, земного, хорошо,— думает Анна.— Утешать печальных, больных… молиться, молиться без конца, и день, и ночь, за упокой души князя Михаила,— вот мое утешение.
Как во сне всходит княгиня по ступеням амвона, прощается с князем… За ней весь народ творит прощальное целование.
Медленно проходит княгиня путь от собора… Вот она опять у себя, в своей светелке. Боярыня помогает Анне переодеть тяжелый траурный сарафан и накидывает на нее белый кисейный летник.
— Ты бы прилегла, княгинюшка, чай устала после долгой службы,— говорит боярыня и гладит пушистые волосы Анны.
От прикосновения этой дряхлой, старческой руки, Анна вдруг вспоминает далекое прошлое! Сколько раз ласкала она ее в детстве! И Анна кажется себе такой жалкой, маленькой, несчастной, что слезы душат ее, подступают ей к горлу, и она плачет неутешными, горькими слезами…
— Плачь, деточка,— ласково говорит старушка,— слезы душу облегчат; выплачешь свое горе и легче будет тебе…
Долго плачет Анна, прижавшись к боярыне, как бы ища в ней защиты и поддержки, плачет, как ребенок, вдруг понявший постигшее его великое горе.
— Не убивайся так, Аннушка,— говорит старушка,— не гневи Бога; Бог даст, еще не одну радость в жизни увидишь.
— Нет,— шепчет Анна,— нет для меня больше счастья… Знаешь, родная, я не могу больше жить в этих пышных хоромах… одна… без Михаила… Я хочу уйти… в монастырь!…
— Что ты, родная?! В монастырь еще успеешь; полно, не надо отчаиваться, грех!
— Да что же делать, родная? Научи!., все мне постыло, все противно стало! Одно лишь отрадно: молиться! Я хочу послужить Богу, вымолить Михаилу упокоение души, Царствие Божие.
Боярыня понимает Анну… И сама она давно ушла бы в монастырь, да жаль было оставить свою Аннушку…
«И правда,— думает старушка,— ей там легче будет…»
— Благослови меня,— просит Анна,— благослови на новую жизнь, ведь ты моя вторая мать!
— Христос с тобой, Аннушка,— торжественно говорит старушка, набожно крестя склонившуюся княгиню,— дай тебе Бог сил перенести трудную новую жизнь, уподобиться Ангелам Божиим!
Ночь… Все тихо, тихо. В монастыре все спят после длинного трудового дня…
Сторож медленно ходит кругом келий и стучит в чугунную доску… Все тихо, все спит.
В кельях горят лампады перед иконами, везде темно… Лишь в одном, крайнем, оконце виден свет: это горит свеча в келье сестры Софии — такое имя получила княгиня Анна в монашеском постриге.
Целыми ночами молится она, не зная сна и покоя.
Убогая тесная келья, жесткая лежанка вместо постели, стол с лавкой, огромный киот с образами — вот все убранство этого скромного жилища.
На коленях, на жестком холодном полу, перед образами стоит сестра София и шепчет молитвы. Трудно узнать в этой исхудавшей монахине, одетой в грубое черное одеяние, с ввалившимися глазами, бледным, печальным лицом, худыми, почти прозрачными, как воск руками, перебиравшими четки, когда-то цветущую здоровьем красавицу, княгиню Анну… Уж много лет питается она лишь водой и хлебом, спит мало, не раздеваясь, день и ночь молится за души мужа, своих двух сыновей и внука, погибших в Орде…
Не удовольствовались басурманы смертью князя Михаила. Не прошло и двух лет со дня его смерти, как погиб в Орде ее сын, да еще как погиб! Каких мук не перенес, каких страданий не испытал! Даже вспомнить тяжело об этом… А второй ее сын, Александр? Хитростью заманил его хан в Орду, насулил ему множество различных благ… и изменнически умертвил вместе с сыном его Феодором. Как любила княгиня внука! Он был светлым лучом в ее печальной, страдальческой жизни. Она не хотела пускать его в Орду… Напрасно согласилась она с сыном… напрасно позволила обоим ехать.
Столько горя пережила княгиня, что трудно представить себе, как один человек может так страдать… И всегда, в самые тяжелые минуты отчаяния и горя она находила утешение в молитвах, в горячей безграничной вере в Бога…
Давно словно умерла Анна телом; теперь она живет лишь духом, общением с Богом. Богу угодны ее святые молитвы; множество странников и больных приходят к ней, и Господь исцеляет их по молитве монахини Софии.
Но и здесь, далеко от людей и от мира, томится княгиня: болит ее душа за младшего сына, Василия… Один остался он у нее. Что-то с ним? Давно не имеет она о нем весточки… Уж не случилось ли с ним чего (упаси Господи!) недоброго?.. Эта мысль пугает княгиню; с новой горячей мольбой поднимает она свои исхудалые руки к небу… На глазах появляются слезы.
«Господи, пусть будет по воле Твоей,— шепчет она,— но, если возможно, огради меня от нового испытания… Сохрани мне Василия. Ты Один знаешь, как люблю я его».
Долго молится монахиня София.
Начинает светать, звезды меркнут и гаснут… Занимается заря. Пробуждается природа, птички начинают щебетать…
Вдруг гулкий удар колокола проносится в еще дремлющем воздухе и замирает… За ним раздается другой, третий…
«К заутрене звонят»,— думает княгиня и спешит в церковь.
На ее пути стоят больные, бедняки; люди простирают к ней руки…
— Помолись за нас грешных,— слышится кругом.
Церковь уже полна народу… На клиросах стоят певчие-монахини, священник выходит из алтаря, начинается служба…
Раннее утреннее солнышко приветливо смотрит в окна храма и освещает молящихся. Надежду будит оно у печальных, что-то радостное закрадывается в сердце… И у княгини становится светлее на душе, мрачные мысли уходят куда-то далеко…
— Господи, как хорош Твой мир, как сладко жить,— шепчет она…
Молитвенное настроение охватывает монахиню Софию; ей хочется молиться, молиться без конца, молиться за всех людей. Она забывает все, где она и что, она видит лишь Бога, Создателя мира, Спасителя…
Служба окончена…
Еще вся охваченная каким-то возвышенным настроением, идет монахиня в свою келью.
— Сестра София, у вас гость,— говорит ей молодая послушница, встречая княгиню на пороге кельи…
— Гость?!.
София входит в келью… У окна, на лавке, сидит стройный молодой князь… Его прекрасное открытое лицо, светлые глубокие глаза, ласковая улыбка поражают изумительным сходством с княгиней. Рядом с князем сидит, болтая ножонками, мальчик лет пяти…
— Василий!..
— Матушка!..
Князь бросился к матери. Слезы душили княгиню, но не горькие слезы отчаяния, а светлые, радостные слезы счастья…— Проси, Михаил, бабушку, проси,— слышит она голос князя.
— Поедем, баба, я тебе саблю подарю… хорошую, большую; мне папа ее дал,— залепетал мальчик.
— Дорогие вы мои,— обнимая и целуя внука, говорит княгиня, а голос ее так и дрожит,— как я могу устоять против просьб ваших…
Видно Бог услышал мою молитву, послал мне утешение. Поедем, Василий, я согласна. Хочу увидеть родной Кашин, поклониться его святыням, жить близко от тебя, на родине послужить Богу…
— Великую радость доставишь ты нам, матушка,— говорил князь, целуя ее.— Так значит с Богом и в путь!
Через несколько недель княгиня была уже в Кашине.
С великой радостью и торжеством встретили ее кашинцы.
— Вернулась к нам, наше красное солнышко,— говорили люди.
Многие кашинцы знали княгиню девочкой, до ее замужества. Они помнили ее кроткий, ласковый нрав, ее бесконечную доброту, милость и заботу о бедных и несчастных; видели в ней защиту себе и поддержку.
Дряхлые седые старики, давно уже не слезавшие с печей, и те кое-как добрели до городских ворот, куда весь город вышел навстречу княгине-инокине. Со слезами взирали на нее люди, простирали к ней руки, как источнику счастья и милости. А она, глубоко потрясенная этой сердечной искренней любовью, всем сердцем воздавала хвалу Богу и благодарила за великое утешение, какое послал ей Господь.
В великих подвигах христианской любви и самоотвержения провела княгиня остаток своей многопечальной, страдальческой жизни: ни один бедный не ушел от нее без подаяния, ни один несчастный не удалился от нее без утешения; больные приходили к ней искать облегчения и нередко получали полное исцеление; грешники приходили каяться в своих прегрешениях и уходили от нее с примиренной совестью и твердой решимостью больше не грешить. Здесь в Кашине монахиня София постриглась в великую схиму с прежним именем Анна и вскоре отошла ко Господу.
Искренно и горько оплакали кашинцы кончину княгини Анны, вознося горячие молитвы о упокоении ее многоскорбной души.
Раннее майское утро. Едва начинает светать, звезды слабо мигают и одна за другой исчезают на небе, словно тонут в предрассветном тумане. Повеял холодок и разбудил мальчика, сладко спавшего на опушке березовой рощицы.
Мальчика звали Варфоломей. Это был будущий великий молитвенник и покровитель земли Русской — святой Сергий. Отец послал мальчика разыскивать коней. Далеко куда-то зашли кони. Всю ночь пробродил мальчик по лугам, полям, лесам и перелескам, но коней не нашел и к утру забылся сном.
Варфоломей проснулся, открыл глаза, сладко потянулся, зажмурился и хотел было продолжать прерванный сон, но вдруг вспомнил, где он и зачем, и быстро вскочил на ноги.
С изумлением увидел мальчик, что недалеко от него, под густым развесистым дубом, горделиво стоявшим в стороне от леса, коленопреклоненно молится старец инок.
Варфоломей остановился и решил подождать конца молитвы, чтобы спросить старца, не видел ли он пропавших коней.
Старец молился усердно, проливая слезы.
— Вероятно, это праведный человек, и Бог слушает его молитвы,— подумал Варфоломей, и в душе его промелькнула мысль, не попросить ли у старца молитв и помощи в постигшем его горе.
А горе у мальчика большое. Два года уже учится Варфоломей грамоте, но грамота не дается ему. Далеко он отстал от своих сверстников, с большим трудом, по складам едва-едва разбирает по часослову молитвы, ошибаясь чуть не на каждом слове. Учителя наказывают мальчика, родители убеждают, товарищи смеются. Мальчик старается из всех сил, но толку нет. Старец окончил молитву и взглянул на Варфоломея.
— Что тебе надобно, чадо? — спросил старец.
— Я учусь грамоте, но не умею,— со слезами отвечал мальчик,— помолись за меня Богу, чтобы я мог научиться грамоте.
Старец воздел руки к небу, опустился на колени и стал молиться. Потом он дал Варфоломею часть просфоры.
— Это дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Святого Писания,— произнес старец.
Долго потом говорил еще старец, наставляя мальчика; наконец благословил его и хотел продолжать путь.
Мальчик упал на колени и стал просить старца посетить дом его родителей: мои родители «любят таких, каков ты, отче»,— нежно пролепетал отрок.
Старец исполнил его просьбу.
Родители Варфоломея с честью встретили старца и предложили ему трапезу, но старец пожелал прежде всего пройти в моленную комнату и велел Варфоломею читать по книге псалом.
Варфоломей отказывался, ссылаясь на свое неуменье, но старец настаивал.
С трепетом раскрыл Варфоломей псалтирь и, к удивлению родителей и своему, стал читать ясно и раздельно, без малейших погрешностей.
Вкусив пищи, старец покинул дом. Родители Варфоломея провожали старца до ворот, но тут он внезапно стал невидим.
Весною 1439 года татарская орда из царства Казанского нахлынула на Русскую землю. Татары вторглись в пределы Нижегородские, опустошили окрестности Нижнего Новгорода, разорили и обитель Желтоводскую. Часть иноков ее была избита, другие вместе с преподобным Макарием и случившимися богомольцами были уведены в плен.
Под строгим надзором, в изодранной одежде, закованные в цепи шли под палящими лучами солнца узники. Ни слова ропота, ни стона страданья не срывалось с их уст. Преподобный Макарий подкреплял слабые силы пленников словами Священного Писания, примером Христа и мучеников, утешал скорбевших, сам подавал пример бодрости духа, веры и надежды на Бога,
Удивлялись татары терпению и безропотности пленников, но особенно дивились они смирению, кротости и мудрости Макария.
Пленников привели в ханскую ставку, сам хан явился посмотреть на них.
Стража обратила внимание хана на Макария и не находила достаточно слов, чтобы изобразить, как терпеливо сносил он тяжести мучительного пути, как учил других терпению, наставлял смиренно нести ниспосланное испытание, покориться врагам…
Изумился и разгневался хан.
— Если действительно таков человек, приведенный вами, зачем же вы взяли его? Разве ныне знаете, что Бог гневается за оскорбление таких людей?
Так вскричал хан и, опустившись на одно колено, просил инока простить неразумных, а затем приказал отпустить узника и тех пленников, какие с ним были, и все имущество возвратить им.
С дозволения хана преподобный Макарий предал погребению убитых татарами и в сопровождении освобожденных пленников двинулся в путь в пределы Костромской земли, где думал найти убежище от татар.
— Не скорбите, чада, о нашедшей беде. За грехи наши послал Господь нам наказание. На путь спасения хочет Он, Всеблагий, обратить нас, спасти нас чрез страдания.
Народ внимал словам инока.
Путь был трудный и опасный. Опасно было снова попасть в руки врагов или подвергнуться нападению диких зверей. Был недостаток и в пище.
За три дня до праздника святых апостолов Петра и Павла путники совсем обессилели от голода — уже более суток они не вкушали пищи.
Вдруг дикий лось выбежал из лесной чащи, увидал людей, испугался, споткнулся и упал. Путники набросились на него и успели схватить. Они подошли к преподобному и просили разрешения, несмотря на пост, убить лося на пищу.
Преподобный запретил нарушить пост и обещал, что Господь поможет им и вознаградит за послушание церковным уставам. Он приказал отпустить зверя, отрезав ему лишь часть шерсти на ухе. Через несколько часов навстречу путникам попался крестьянин. Он вез в город хлеб и часть его уделил голодавшим.
Настал праздник святых апостолов Петра и Павла. Путники снова страдали от недостатка пищи. Преподобный, уединившись в лес, молился Господу о помощи. Вдруг радостные крики прервали его молитву: то путники поймали три дня тому назад отпущенного зверя, узнав его по недостающей на ухе шерсти. Макарий разрешил употребить лося в пищу, так как дни поста уже окончились, и обратил внимание всех на то, как Бог промышляет о людях!
Освобожденных пленников привел Макарий в город Унжу, а сам поселился в пустынном месте, на берегу озера, в пятнадцати верстах от города.
Шестьдесят пять лет прожил здесь преподобный Макарий и скончался почти столетним старцем.
Восемнадцать лет прошло после кончины преподобного, и грозная татарская орда окружила Унжу, зажгла окраины и готовилась приступом взять город.
Войска, чтобы отразить врагов, в Унже не было. Воеводы вместе с гражданами с усердной мольбой прибегли к небесному покровителю города, преподобному Макарию.
Вдруг зашумел ливень, пламя пожара погасло, а осаждающие бросились бежать, избивая друг друга.
— Нам виделся старец на коне,— рассказывали после взятия в плен татары,— он был в монашеской одежде, вторгся в наши полки, метал в нас стрелы.
Пока главные силы татар осаждали Унжу, небольшой татарский отряд направился к монастырю преподобного Макария.
Татары ворвались в монастырь, проникли в церковь, начали срывать серебряные листы с гробницы преподобного. Но вдруг все были поражены слепотой — в трепете они пустились в бегство и многие при этом утонули в реке Унже.
Прошло еще десять лет. Четырнадцать тысяч татар напали на город Солигалич. Жителям не от кого было ждать помощи. По совету священника с горячей мольбой притекли они к образу преподобного Макария, всю ночь молился народ в храме.
На рассвете несколько граждан видели, как из городских ворот выехал инок, похожий на преподобного Макария, как он изображен на иконе. Чудный старец подъехал к вражьему стану и грозно приказал врагам удалиться.
Смятенье возникло среди татар; они бросали оружие и устремлялись в бегство. Когда рассвело, во вражьем стане не было уже ни одного человека.
Так один святой спас беззащитный край от тысяч врагов.
Это произошло много лет тому назад. Было раннее летнее утро. Солнце едва взошло, но в Москве уже кипела жизнь. Узкие длинные московские улицы были полны народом. Лавки отворялись, рынки наполнялись покупателями, рабочие шли на работу, извозчики с маленькими тележками в одну лошадь сломя голову мчались по улицам. Всюду стоял шум, крик, гул.
По улице, ведшей к Чудову монастырю, медленно двигалось шествие. На санях (таков был тогда обычай) везли гробик трехлетнего ребенка. Убитые горем отец и мать с поникшими головами брели позади саней.
В монастыре уже шла Литургия, когда туда привезли останки младенца. Гробик внесли в церковь и поставили у раки, где почивают мощи святителя Алексея.
Служба продолжалась. Несчастная мать то усердно молилась Богу, то вдруг, охваченная сознанием тяжелой потери, начинала рыдать и со слезами биться о плиты церковного пола.
Ее сын, ее маленький Димитрий умер! Он не прибежит больше к ней, не станет ласкаться… Злая болезнь долго томила его, смерть отняла его у матери…
Рыдания матери заглушают собой пение церковного хора, невыносимое страдание слышится в воплях несчастной. Но вот силы покинули ее, и бедную без чувств выносят из храма.
Литургия окончилась. Храм опустел. Скоро начнется отпевание.
Страдалица-мать пришла в себя; едва передвигая ноги, она с мужем возвращается в храм. На пороге храма опять живее вспоминается ей образ умершего сына и слезы застилают ее глаза.
Но что это? Ей кажется… нет, она ясно видит… ее сын сидит на гробике и играет кистями, свешивающимися по сторонам раки святого.
— Мама, иди ко мне,— раздается голос ребенка.
Обезумевшая от радости мать бросилась к сыну, а он продолжал лепетать, показывая ручонкой на раку:
— Старец подошел отсюда ко мне… в золотой одежде… Он положил мне руку на голову… сказал: «Встань»… Я проснулся… и никого нет…
Тотчас весь монастырь узнал о чуде, и, вместо надгробных молитв, величественные, торжественные звуки песнопений благодарственного молебна огласили храм.
Небольшая горница по стенам сплошь уставлена образами. Свет едва проникает через узкие оконца; в углу, перед большой Владимирскою иконой Богоматери, стоит аналой с раскрытым Евангелием; восковая свеча, мерцая, горит перед образом. Это молельня великой княгини Евдокии.
На коленях стоит перед иконой княгиня, она молится. Горячую молитву шепчут ее уста. Княгиня еще не стара, она сохранила следы недавней красоты. На ней пышный сарафан, шитый камнями самоцветными, высокая кика, украшенная жемчугами.
Глубоко погрузилась княгиня в молитву. Молится она за усопшего мужа, князя Дмитрия Донского, молится за сына, великого князя Московского, за Святую Русь, чтобы помиловал ее Господь от грозных нашествий татар, молится за детей своих, за всех бедных, увечных, больных и пленных.
Вся охваченная жаркой молитвой не замечает княгиня, что скрипнула дверь молельни и на пороге показался сын княгини,— князь Георгий, с другом своим Петром.
Заглянув в горницу и увидя мать молящеюся, князь Георгий тихо притворил дверь.
Долго, долго молится княгиня, поклон за поклоном кладет она. Но вот она встает, крестясь, прикладывается к иконе и направляется к двери.
Вдруг до слуха ее долетают слова сына:
— Грустно и тяжело это видеть.
— Прости, князь Георгий,— отвечает другой голос,— но и я думаю, что мать твоя поступает, как фарисей, о котором читается в Евангелии. Все напоказ: и молится, и милостыню творит, а сама в золоте да камнях драгоценных ходит, и пьет, и ест сладко…
— А нас смирению христианскому учит,— снова послышался печальный голос князя Георгия,— и не хочешь осуждать, а осудишь…
Смертельная бледность покрыла щеки княгини Евдокии…
— Да будет воля Твоя,— едва слышно прошептала она. Тихо отворила княгиня дверь и позвала сына.— Войди,— сказала она,— и ты, Петр,— добавила она, обращаясь к другому юноше.— Невольно услышала я жестокие слова ваши. Не хотела я говорить до конца дней моих о подвиге, который несу со смерти мужа, но, видно, что Господу угодно, чтобы узнали вы о нем. Не хочу смущать душу сына тяжелой мыслью о притворстве моем. Смотрите же и судите!
И княгиня трепетной рукой расстегнула ворот.
В ужасе и смущении отступили юноши назад: тело княгини было совсем иссохшее и почерневшее, кости выступили, едва прикрытые кожей, и тяжелые железные вериги глубоко впились в тело.
В благоговении бросился князь Георгий к ногам матери и, обливаясь слезами, припал к краю одежды ее.
В просторной горнице с высоким решетчатым окном, на широкой постели с шелковым пологом лежит больной боярин Дмитрий.
Вот уж три месяца злой недуг не оставляет боярина, все старания лекарей напрасны.
Князь Всеволод в тяжелом горе,— боярин Дмитрий, друг его детства, товарищ и первый советник. Лишиться Дмитрия князю кажется невыносимым горем.
Князь употребляет все усилия, чтобы спасти жизнь любимому другу, Недавно приехал в Киев знаменитый врач из Армении, князь позвал его к больному. Долго продолжался осмотр больного и, наконец, врач объявил свое решение: боярин должен умереть, ничто не может спасти его.
Уныние охватило князя Всеволода, тяжко было ему расставаться с Дмитрием!
Но больше всех страдала жена боярина Дмитрия, боярыня Евпраксия. Дни и ночи проводила она у изголовья больного, никому не доверяла ухода за ним, сама заботилась обо всем.
В комнате тишина.
Сумерки начинают сгущаться. Лишь слабый свет лампады едва освещает красный угол, остальная часть горницы погружена во мрак.
Больной в забытьи. Вот уже несколько дней он не вкушает пищи, лишь пьет несколько глотков воды.
На низенькой лавке, у изголовья больного сидит боярыня Евпраксия. Она молода, и ее лицо, исхудавшее и побледневшее за последнее время, по-прежнему прекрасно; особенно хороши глаза — задумчивые, темные, скрытые под густыми ресницами.
Боярыня тихо встает и подходит к оконцу:
— Еще не видно! — шепчет она. Часы идут.
Евпраксия с беспокойством замечает, что ночь близка.
— Боже! Неужели он не придет? — шепчут ее губы.— А завтра может быть уже поздно!..
Снова подходит боярыня к окну, вглядывается в темную даль, но нет! Напрасно! Никого не видно. Тихо опускается боярыня на лавку у постели больного. Больной затих, лишь изредка во сне слышится его несвязная речь.
Боярыня склоняется на подушку рядом с больным, и дремота начинает овладевать ею.
Дверь скрипнула.
Евпраксия быстро встала.
— Кто тут? — шепотом спросила она.
— Матушка-боярыня,— послышался в ответ старческий голос вошедшей няни,— посланный из обители возвратился…
— Один? — быстро перебила ее боярыня.
— Нет, с ним старец.
— Веди его, веди скорей, няня,— заторопила Евпраксия,— скорей…
Старушка ушла.
Боярыня подошла к постели больного.
Бред снова усилился. Несвязные слова вылетали из его воспаленных уст.
Дверь снова отворилась и в горницу вошел высокий старец с длинной седой бородой. Это был отец Агапит, инок Киево-Печерской Лавры.
Евпраксия бросилась к нему.
— Наконец-то! — молвила она шепотом.— Отче! Я жду тебя целый день.
— Не мог, дочь моя,— отвечал старец,— много больных было в обители…
— Отче, помоги Дмитрию,— прошептала боярыня,— сегодня врач объявил, что спасенья нет… Я была охвачена отчаянием… и вдруг вспомнила о тебе. Ты можешь его спасти!
— Веришь ли тому, что говоришь? — строго спросил старец.— Может быть, это пустые слова; может быть, ты хочешь испытать все средства, лишь бы спасти боярина?..
— О, нет,— твердо ответила боярыня,— я верю, что ты можешь это сделать именем Господа Иисуса Христа! Испытай веру мою!
— Хорошо,— сказал старец,— да будет тебе по вере твоей! Молись и проси у Господа исцеления супругу твоему!..
Боярыня опустилась на колени, припала к холодному полу и горячая молитва полилась из ее наболевшей души.
Старец подошел к больному, положил руку на воспаленный лоб боярина и тоже начал молиться.
По мере того, как старец читал святые слова молитвы, больной стал затихать, а рука старца словно снимала жар с горячей головы Дмитрия.
Боярыня все молилась. Горячие слезы текли по ее бледным щекам, поклон за поклоном клала она перед иконой Богоматери, уста шептали молитву…
Вдруг больной глубоко вздохнул… и открыл глаза.
Агапит перекрестил его и подошел к Евпраксии.
— Встань,— ласково обратился он к ней,— Господь услышал твою молитву!
Старец тихо подвел боярыню к больному.
Евпраксия подошла к постели, наклонилась над лицом Дмитрия и остановилась в изумлении: боярин лежал с широко раскрытыми глазами и ласково смотрел на нее. Лицо его было спокойно, от него не веяло горячим жаром, легкий румянец окрасил бледные щеки. Евпраксия вскрикнула и бросилась на грудь больному. Слезы радости брызнули из ее глаз, и она в восторге целовала дорогие, милые черты лица мужа.
— Довольно, дочь моя,— послышался кроткий голос Агапита,— он еще слаб, не утомляй его шумной радостью. Благодари Господа за милость.
— И тебя, отче, благодарю за чудную молитву твою, угодную Богу,— промолвила Евпраксия, склоняясь пред старцем.
— Господь помогает верующим в Него! — отвечал Агапит, благословляя Дмитрия и Евпраксию,— благословенно имя Его вовеки!
Недалеко от города Твери находится Савватиева пустынь. Многими подвижниками прославилась она. Из числа их особенно выделялся старец Евфросин.
Было утро.
Приближалась осень, деревья сияли на солнце в своих багряных нарядах, небо прозрачное, бледное казалось больным и тоскливым.
В соборном храме только что отошла ранняя обедня. Иноки разошлись по своим кельям, везде началась обычная работа.
Монастырский двор опустел. Лишь изредка торопливо пройдет монах, прохрустит песок под его ногами, и опять полная тишина.
Вдруг на монастырском дворе у ворот послышался шум. Несколько иноков с тревожными лицами прибежали в келью игумена.
Вскоре вышел и сам настоятель — высокий, бодрый старец, убеленный сединами.
На дворе показалась толпа служителей княжеских, в темных печальных одеждах.
Они несли на роскошных носилках прекрасную молодую девушку — дочь князя Тверского. Княжна, казалось, была в глубоком обмороке. Бледные щеки, закрытые глаза и крепко сдвинутые брови придавали ее красивому личику выражение скорби и страдания.
Множество нянюшек и мамушек, с громкими причитаниями, окружали носилки. За ними следовал сам князь Тверской Борис Александрович.
Князь был еще не стар, но его мужественное прекрасное лицо носило следы тяжелого горя. Вот шествие остановилось перед игуменом.
Старец благословил князя и княжну и осведомился о причине посещения пустыни.
— Дочь моя занемогла,— отвечал князь Борис,— слышал я, что в вашей пустыни спасается богоугодный старец Евфросин. Вот я пришел молить его походатайствовать перед Всевышним за нас, грешных. Нельзя ли позвать старца?
Тотчас послали за Евфросином.
Вскоре показался старец; его строгий облик был величествен, даже несколько суров.
Когда он приблизился, игумен сообщил ему о причине прихода князя.
— Помолись, святой отец, за дочь мою,— промолвил князь,— она обручена князю Московскому, невеста; посмотри, как она прекрасна и молода! Неужели ей надлежит покинуть этот мир!
Лицо старца приняло строгое выражение.
— Не нам судить о делах Господних,— отвечал он,— во всем воля Его!
— Но, отец, не откажи, помолись,— горячо заговорил князь,— может быть, Бог не хочет ее смерти, а послал ее болезнь мне в испытание. Я готов принести, какую хочешь, жертву, вытерпеть строжайшее наказание, лишь бы спасти дочь! И несчастный отец в порыве отчаяния бросился к ногам Евфросина. Старец тихо поднял князя с земли, обнял и сказал:
— Будем вместе молиться! Пойдем в храм, несите девицу к иконе Богоматери.
Тихо, тихо подняли носилки; князь со старцем, игумен, вся братия медленно, в торжественном молчании направились в церковь.
Поднялись на паперть, раскрыли церковные двери, осторожно внесли больную в храм, опустили носилки перед иконой Пресвятой Девы.
Запели молебен. Громко звучали голоса под сводами храма. Старец, на коленях перед чудотворной иконой, тихо читал молитвы.
Княжна лежала в беспамятстве.
Сдерживаемые рыдания порой слышались в толпе; в благоговении все горячо молились. Отец Евфросин читает молитву:
— Боже великий, всеблагий, человеколюбивый Господь, сотворивший множество чудес, простивший грехи грешникам! Молим Тя, по молитве Твоей Пречистой Матери, внемли мольбам нашим и яви милость Свою на девице сей! Верим, Всеблагий, что по единому слову Твоему восстанет она от болезни своей, как восстал некогда расслабленный, тридцать восемь лет лежавший в болезни! Приди же, Спаситель, на помощь нам немощным, услыши наши грешные молитвы, яви славу Свою!
Не успел окончить старец молитву, еще оставалась воздетой рука его, благословлявшая княжну, как девушка глубоко вздохнула и открыла глаза!..
В порыве бесконечной радости бросился счастливый отец к дочери.
Старец стоял над девушкой, глаза его были устремлены на икону и слезы текли по щекам.
— Помни, князь,— тихо промолвил он,— Господь простил тебя и явил Свою милость. Не забывай Его! Прибегать к Нему надо и в радости, и в печали. Гряди с миром! Господь с тобой и дочерью твоей!..
Живописно раскинулся Псков, многочисленные храмы его высоко поднимаются над городом, ярко блестят на солнце их золотые главы. Но выше всех стоит собор в честь Святой Троицы. При самом слиянии реки Великой с Псковой поднимается крутая, высокая гора, а на ней гордо и величественно возвышается этот древний собор. За много верст от города видны его золотые маковки, а загудят колокола — за десяток верст несется по Великой благовест.
Стояла середина февраля 1570 года. Близился вечер. Мороз крепчал. На улицах, уже полуокутанных мраком, было пустынно, никому не хотелось выходить из теплого дома на трескучий мороз. Город словно заснул… Вдруг среди тишины раздался гулкий, протяжный удар колокола с соборной колокольни,— раздался и замер… За ним еще удар, другой, третий — и понеслись, торопясь и перебивая друг друга, нестройные, беспорядочные звуки набата. Все громче и громче раздавался звон, гулко разносились в чистом морозном воздухе зловещие удары…
Встревоженные лица показались в оконцах домов, заскрипели двери и ворота, народ поспешно стал выбегать на улицу.
— Набат… Пожар!..— слышалось кругом.
Торопливо озирались все по сторонам, но нигде не было видно ни огня, ни дыма.
А колокол звучал все громче и громче, словно созывал народ к себе.
— Уж не в соборе ли горит,— проносилось в голове каждого, и всякий бросался бежать к кремлю.
Через несколько минут три главных улицы, ведущих к кремлю, наполнились бурным потоком бегущих.
В соборный двор скоро собрался весь город. С недоумением спрашивали псковичи друг друга, что означает набат; огня нигде не было, значит не на пожар созывали народ.
Быстро прошел, проталкиваясь среди толпы, князь-воевода. Напрасно старался он узнать причину тревоги, кто и зачем бьет набат, никто не мог дать ответа на его вопросы, а колокол все гудел и гудел, словно стон слышался в его голосе. Вдруг набат смолк. На соборной паперти показался человек в изорванном тулупе; на лице его были следы далекого пути, бессонной ночи и утомления. Он подошел к самым ступеням паперти, и среди воцарившейся мертвой тишины раздался охрипший мощный голос.
— Государи Псковичи!.. Это я созвал вас сюда; я только что из Новгорода. Беда великая ожидает нас, идет к нам… погибнем все. Царь Иоанн Васильевич вот уже три недели чинит в Новгороде расправу. Подбросили злые вороги подметное письмо, будто Новгород Великий хочет предаться польскому королю и просить у него заступы и помощи. Распалился гневом царь, порешил весь Новгород с лица земли стереть. День и ночь казнят опричники новгородцев; ни старым, ни малым,— никому нет пощады. Река Волхов побагровела от крови. А теперь царь на Псков идти хочет, говорит, что Псков — младший брат Новгорода — всегда был и есть с ним заодно. Псков будто и теперь измену затевает. Тяжелой расправой грозит царь Пскову. Подумайте, братцы, пока не поздно, как быть! Неужели гибнуть добровольно, обрекать на гибель наших жен и детей?!.. Или, быть может,— и голос гонца зазвучал насмешкой,— вы хотите позабавить опричников своими мучениями, своею кровью обагрить реку Великую и Пскову?..
Громкие вопли и крики заглушили слова гонца. Словно раненый зверь заревел народ.— Не сдадимся!. Защищаться!..— сквозь шум выделялись голоса.
— Не хотим умирать! Мы верны были царю Ивану коль не верит он нам, так покажем себя…
Шум и крики становились все громче и громче; отдельных голосов уже нельзя было разобрать.
— Воевода!.. Воевода говорить будет,— вдруг пронеслось в толпе.
На паперть, действительно, медленно поднимался князь Токмаков, псковский воевода, человек уже преклонных лет. Лицо его, обыкновенно приветливое и доброе, было сурово и озабоченно. Горячо любили псковичи князя Юрия, не раз выручал он их из беды; сильно верили они своему воеводе, были убеждены, что не выдаст он их.
Зорким взглядом окинул князь горожан и прочел на их лицах, что не легко будет с ними сладить.
— Псковичи! — послышался голос воеводы, и тотчас кругом наступила тишина, весь народ словно замер, в напряженном внимании ожидая, что скажет князь.— Псковичи,— продолжал воевода,— вот гонец привез нам печальную весть — царь Иоанн прогневался на нас… надо подумать, как смилостивить его…
Глухой ропот послышался кругом.
— Умилостивить,— повторил князь,— защищаться нельзя, царь сильнее нас, вы это сами знаете… Если мы вздумаем оказать царю неповиновение,— конец Пскову. Нам ли с царской дружиной бороться? Только хуже царя прогневим,— и по делам накажет нас царь… А теперь мы неповинны, никакой измены не знаем… Слышали — царь едет к Пскову, встретим же его, как послушные рабы, авось и поверит царь, что мы против него никакой измены не затевали… увидит Государь нас смиренно склоненными перед ним и помилует…
Уныло слушал народ воеводу, не того ожидал от его речи… А между тем все понимали, что правду сказал князь. Только на милость и можно надеяться…
— Подумайте,— продолжал воевода,— ведь новгородцы, может, и сами виноваты, а мы за собой вины не знаем, может, и не на казнь идет к нам царь, а мы его, как врага встретим…
Мало-помалу стал смолкать ропот.
— Может, и правда царь не казнить нас идет, а мы его сразу прогневим,— говорили в толпе,— а коль прогневим, так всем один конец.
Долго толковали псковичи, до поздней ночи судили и рядили, а в конце концов решили — быть по слову воеводы.
— Теперь,— сказал князь-воевода,— идите по домам, молитесь святой Заступнице нашей Пресвятой Богородице. Да охранит Она Псков под Своим святым покровом! В молитве и посте будем ждать царя; с иконами, хоругвями и колокольным звоном встретим его. Покажем царю-батюшке, что мы ему не враги, а смиренные рабы и верные слуги!…
Печально выглядел Псков на следующее утро. Словно вымер город. Ни шума, ни говора, пусто на улицах, базарная площадь безлюдна. Какая-то тоска и отчаяние царят везде: всё забыли псковичи перед грозным призраком близкой беды. Живут они лишь одной надеждой на помощь Божию. Полны народом городские храмы, с утра до ночи идет в них церковная служба. Усердно молятся псковичи, чтобы миновала их беда лютая, поют молебны Божией Матери, небесным заступникам Пскова — святым князьям Всеволоду и Гавриилу,
Прошел день, наступила ночь. Во Пскове никто не спал. С нетерпением ожидали псковичи вестей, где царь? Когда будет во Пскове? Но вести не приходили, и псковичи по-прежнему оставались в томительной неизвестности. Прошел и второй день, так лее угрюмо и безжизненно, как и первый, настал третий. Отчаяние псковитян перед неизбежной бедой, которая приближалась к ним, словно крадучись, чтобы застать их врасплох, не знало границ.
Лишь на третий день под вечер пришла во Псков страшная весть: царь ночует в Спасо-Мирожском монастыре, завтра поутру будет во Пскове.
Псковичи словно очнулись от сна. Повсюду стало заметно необычное оживление. Громкий говор слышался на улицах, опять собрались все на площади перед собором, еще раз говорил князь-воевода, как встретить царя. Темная ночь спустилась на землю. Во Пскове забыли о сне; никто не спал. До самого рассвета шли в храмах церковные службы, всю ночь гудели колокола. Как бы готовясь к смерти, многие псковичи исповедались и приобщились Святых Тайн. Чуть забрезжило утро, едва показались первые лучи солнца, на улицах Пскова уже толпился народ. Вытаскивали столы из домов, накрывали цветными скатертями, ставили хлеб-соль. В церквах служили обедню.
Но вот от собора проехал воевода.
— Не оставь нас, родимый!
— Отец! На тебя вся надежда!
— Пропадем, коль покинешь нас! — слышалось на его пути.
Князь был в дорогом темно-зеленом бархатном кафтане, отороченном мехом, в высокой соболиной шапке. Он ехал верхом на вороном коне.
Мало-помалу стали стихать возгласы, вот князь доехал до городских ворот. Рядом с ним стоит его стремянный (Стремянный — придворный, находившийся у царского стремени при торжественных выездах) и держит высокий хлеб с резной солонкой на огромном серебряном блюде заморской работы.
Медленно тянется время. С немой тоской ждут псковичи роковой минуты. Все на улицах, в домах никого не осталось. Глянуло солнышко из-за серых туч и осветило толпу. На колокольне собора стоит старик-звонарь. Много лет уже он звонарем при соборе, не раз звонил, встречая царя, но не помнит он такой встречи, как сегодня…
У стены заволновалась толпа.
—— Едет…
Мигом облетела эта весть город. Князь-воевода грузно спускается с коня, берет от стремянного хлеб-соль и, стараясь скрыть свое волнение, становится впереди толпы.
Вот показались передовые царские всадники. Высокие алые шапки ярко горят на солнце; дальше видны опричники; у их седел торчат страшные собачьи морды; за ними едут дети боярские, бояре, а вот и сам царь Иоанн Васильевич Грозный, На нем бархатный малиновый кафтан, весь шитый золотом, узорчатые сафьяновые ярко-красные сапоги, на голове бобровая шапка, низко надвинутая на лоб; он едет верхом на кровном арабском жеребце. Горячий конь перебирает ногами, пугливо косится по сторонам, грызет удила, но наездник крепко стиснул поводья, и конь, чуя мощь всадника, послушно идет под седлом.
Бояре доехали до ворот. Князь-воевода упал на колени. Царь поравнялся с ним. Суровое лицо Иоанна стало еще более мрачным; недобро сдвинуты брови, злая усмешка кривит его губы.
— Царь-батюшка! — послышался звучный, слегка дрожащий голос князя Юрия,— Псков тебе челом бьет, хлебом-солью…
Воевода приподнял блюдо к Иоанну.
— Прочь!..— гневно крикнул царь и ударил плетью по блюду. Хлеб упал, соль рассыпалась по снегу.
Не взглянув на князя-воеводу, царь проехал дальше; вот он в городе.
— Здрав буди, царь Иоанн!
— Здравствуй, царь-батюшка!
— Много лет жить, царь-государь,— несутся восклицания стоящих на коленях по пути Иоанна псковичей.
Царь не отвечал. Он угрюмо ехал, не глядя по сторонам. Народ в ужасе смолкал, и только колокола на соборной колокольне звонко и весело перекликались, словно радуясь приезду царя.
Вот доехали всадники до собора. Царь сошел с коня и передал его стремянному.
Взор царя остановился на колокольне. Невольно вспомнил он, что этот самый колокол, когда Псков был «вольный», созывал «вече», сколько раз этот колокол собирал псковичей на совет, как противиться царю, не поддаваться Москве… А теперь он словно дразнит Иоанна, хоть отнял Иоанн свободу у Пскова, а он, колокол, все же звонит и звонит, и радуется, и ликует…
Судорога пробежала по лицу Иоанна.
— Долой колокол! — раздался царский голос.
Громкий стон, словно вырвавшись из наболевшей груди, пронесся в толпе и замер.
Несколько опричников бросились на колокольню. Вот они добрались до вышки, вот бросают сверху веревку, другие прикрепляют ее конец внизу, к колокольне собора. Еще несколько минут — все будет готово, можно будет спускать древний колокол — «государь Пскова».
С тоской смотрит старый звонарь на это печальное зрелище, горячая слеза бежит по его морщинистым щекам.
Вдруг толпа бояр расступилась. На площади, против царя, показался почти обнаженный человек, с впалыми бледными щеками; ветер трепал его длинные волосы, обнаженные ноги посинели на снегу; словно два горячих угля горели его ввалившиеся глаза. В руках юродивого был большой шест, на конце которого был воткнут кусок сырого мяса; кровь сочилась по палке и падала алыми пятнами на снег.
Это был псковский юродивый Николай.
Он вплотную подошел к Иоанну и, глядя на него в упор своими жгучими глазами, хрипло проговорил:— Покушай, Иванушка, мяса… на...
И протянул царю кровавый кусок.
Царь вздрогнул и отшатнулся. Несколько капель крови упало на его одежду. Все с ужасом смотрели на блаженного.
Едва сдерживая душивший его гнев, Иоанн отвечал:
— Теперь пост! Я христианин, постом не ем мяса…
— Ты хуже делаешь,— послышался в ответ грозный голос юродивого,— питаешься мясом людей…
Глаза царя загорелись гневом; еще минута, и он велит пытать этого дерзкого безумца. Но царь сдержал себя.
— Послушай меня,— снова раздался голос блаженного,— оставь Псков, уезжай...
Царь сделал знак опричникам, чтобы скорее опускали колокол.
— Уезжай, уезжай,— глухо повторил Николай.
Иоанн, показывая вид, что не слышит, смотрел, как медленно, слегка колыхаясь, стал спускаться великан-колокол… Вот он все ниже, ниже…
— Уезжай,— раздался вдруг громче прежнего голос юродивого,— уезжай, пока есть на чем, а потом поздно будет… Уезжай, уезжай, уезжай…
Все громче и громче кричал юродивый; его крики страшно звучали среди общей тишины, что-то неведомое, зловещее слышалось в них.
Словно сильная боль охватила Иоанна, судорога пробежала по его бледному лицу, но он сделал невероятное усилие над собой и не обратил внимания на слова Николы.
А колокол был уже на средине веревки…
Вдруг сквозь толпу опричников пробрался царский конюший; его испуганный вид и мертвенно бледное лицо говорили, что случилось что-то недоброе.
— Государь, батюшка! Не вели казнить, вели слово молвить,— заговорил он, бросаясь на колени к ногам Иоанна.— Не виноват я, видит Бог, не виноват… Погиб конь твой!..
Глухой шум пронесся в толпе; взоры всех устремились на Иоанна. Он, весь охваченный каким-то необычайным страхом, впился глазами в блаженного; руки его дрожали, губы тряслись, он хотел что-то сказать и не мог.
В эту минуту раздался оглушительный удар, страшный, звенящий звук, будто стон пронесся и замер в воздухе. Облако снежной пыли поднялось у подножия колокольни. Оказалось, что веревка, по которой спускали колокол, оборвалась, и он с размаху ударился о земь и разбился на части. Ужас охватил присутствовавших, страшное знамение увидели все в случившемся.
Царь опустил голову на грудь, глаза его закрылись, хриплое дыхание вырвалось из его груди. Он зашатался и чуть не упал. Подбежавшие опричники едва успели поддержать царя.
…На следующий день царь выехал из Пскова. Перед отъездом Иоанн посетил юродивого и смиренно просил у него благословения.
В тесной келье, на лавке у узкого оконца сидит старец-монах, игумен Воскресенского монастыря, отец Стефан. Перед ним стоит бледный, худой инок, лет двадцати пяти на вид.
— Вижу в тебе, чадо,— говорит старец,— избранный сосуд Божий: ты смирен духом и кроток. Подвига жаждешь ты, и вот, я пришел к тебе, чтобы благословить тебя на высокий и трудный подвиг, который, с помощью Божией, ты совершишь: юродствуй о Христе!
Старец простер руки над склонившимся иноком и благословил его.
С этого дня инок Андрей принял образ юродивого Христа ради. Зиму и лето ходил он босой, в разодранной одежде, страдая от холода, но перенося с радостью и торжеством все добровольные лишения и нужды. Питался блаженный лишь небольшим куском хлеба да водой.
— Не о хлебе едином сыт будет человек, но о всяком глаголе, который из уст Божиих исходит,— говорил Андрей, когда люди с недоумением спрашивали его, чем он жив при такой скудной пище.
Все в городе Тотьме знали юродивого Андрея. Он всегда находился у церкви Воскресения Христова. Многие подавали ему милостыню, но блаженный тотчас все раздавал нищим, не оставляя себе ничего. Днем Андрей юродствовал, а ночи проводил в неустанной молитве.
Так текла его жизнь.
Весть о благочестивом подвиге Андрея разнеслась и за пределы Тотьмы. Было несколько случаев, что блаженный Андрей являлся во сне болящим и те получали исцеление.
Случилось однажды зимой, Андрей шел по дороге, недалеко от города. Он шел на храмовый праздник в соседнее село. Вдруг догоняет его язычник, атаман разбойников, которые во множестве жили в соседних лесах. Догнав блаженного, Ажбакай, так звали язычника, упал на колени:
— Помоги! — начал он умолять Андрея.— Я страдаю глазами. Мне говорили, что ты исцеляешь немощи. Помоги, вот возьми это золото!..
Ажбакай протягивал мешок червонцев.
Но Андрей молча взглянул на него и… убежал.
В недоумении остался Ажбакай, вдруг у него блеснула мысль: он взял горсть снега с того места, на котором стоял босыми ногами Андрей, и отер глаза. В ту же минуту болезнь оставила его.
Незадолго до кончины блаженный вернулся в Воскресенский монастырь. Здесь он и поселился.
В день смерти Андрей просил пономаря Иоанна пригласить священноинока Афанасия, который исповедал и причастил его Святых Тайн.
— Брат! — сказал Андрей Иоанну.— Пришло время разлучению души с телом! Приготовь все для моего погребения. Со слезами стал умолять Иоанн Андрея не покидать их, горе его было глубоко и искренно.
— Всё от Бога,— говорил блаженный, утешая его,— поди, оставь меня одного…
Иоанн вышел.
Через несколько часов он снова вошел в келью Андрея.
Блаженный лежал с крестообразно сложенными на груди руками. Он окончил свой земной путь.
Похоронили Андрея, как он завещал, под колокольней храма Воскресения Христова.
Десять лет юродствовал о Христе блаженный Андрей Тотемский, много чудес прославили его имя после кончины.
Множество народа собралось у лесной кельи отца Серафима. Старец каждый день удалялся сюда, ища уединения, но последнее время много народа приходило сюда к нему,
Среди собравшихся было много больных, слепых и увечных. У самой дороги, под сосной, на траве сидел расслабленный: он не владел ни ногами, ни руками, и пять человек едва донесли его до кельи старца.
Вот показался на дороге отец Серафим. Он шел, опираясь на свой посох; на старце был белый холщовый балахон, на голове камилавка, за плечами котомка со Святым Евангелием. На груди отца серафима висел большой крест — благословение матери, с которым старец никогда не расставался. Лишь только он поравнялся с расслабленным, больной хотел протянуть к нему руку… и не мог.
— Батюшка, помогите,— едва прошептал он. Отец Серафим остановился.
— К докторам надо обращаться, если хочешь лечиться от болезней,— сказал он.
— Я много лечился,— горячо возразил больной,— но, видно, не такая моя болезнь, чтобы доктора могли вылечить меня… Грешен я, отче, грешен… и за грехи покарал меня Бог… Лишь благодать Божия может исцелить меня, я твердо в это верю. Молю тебя: помолись за меня! Сам я не дерзаю обратиться к Богу с такой молитвой, а твои молитвы угодны Богу, Господь услышит твою святую молитву!
Старец пристально смотрел на больного.
— А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа,— спросил отец Серафим,— и в Его Пречистую Матерь?
— Верую…
— Веруешь ли,— продолжал старец,— что Господь, как раньше мгновенно исцелял просящих у Него помощи, так же мгновенно может исцелить и тебя?..
— Верую, отче, верую…— отвечал больной.— Если бы не верил, не пришел бы молить тебя о помощи.
— А если веруешь,— со светлой улыбкой обратился к нему старец,— ты уже здоров. Старец подошел к больному, велел людям, поддерживающим его, отойти, сам поставил больного на ноги и, держа за плечи, велел ходить… Больной едва держался на ногах.
— Не бойся… иди смелее,— ободрял его старец,— вот так.
И больной вдруг сам сделал несколько шагов! Отец Серафим взял его за руку и остановил.
— Довольно, радость моя,— сказал старец,— ты изнурен болезнью, не утруждай себя, пока мало сил. Господь простил тебя, послал исцеление твоей болезни за веру твою. Не забывай же Его… Господь с тобой! Иди с миром.
Знойный июльский день.
В верстах четырех от Сарова, в лесу, возле своей кельи, отец Серафим рубил дрова. Углубившись в работу и распевая церковные песни, старец не заметил, как к нему подошли три крестьянина,
— Денег давай нам,— грубо сказал один из них, беря отца Серафима за плечо.
— У меня ничего нет,— удивленно отвечал отец Серафим.
— Знаем мы, как у тебя ничего нет,— продолжал крестьянин,— ты и в пустыньке живешь, боясь, что в монастыре могут открыть твое добро. Давай…
— У меня ничего нет,— повторил батюшка Серафим.— Не хочешь добром, так заставим,— закричал крестьянин и бросился сзади на старца, но споткнулся и упал.
Отец Серафим был крепкого сложения, воспользовавшись минутой, он мог бы топором убить нападавших, но он опустил топор и сказал:
— Делайте, что вам надо…
Один из крестьян выхватил из рук отца Серафима топор и обухом ударил его по голове. Кровь хлынула из уст инока.
— Господи, прости им, ибо не ведают, что творят,— едва прошептал старец и, потеряв сознание, упал на землю.
Злодеи бросились к келье. Они все перерыли в убогом жилище отшельника, осмотрели за иконами, перешарили сени, поднимали даже половицы, но все поиски оказались напрасными: денег нигде не было.
Долго пролежал отец Серафим без памяти. Наконец сознание вернулось к нему. Делая невероятные усилия, добрался старец до своей кельи и провел ночь в страшных мучениях. Наутро он собрался идти в обитель. Тяжел был для него путь до монастыря! Напрягая последние силы, дошел наконец отец Серафим до обители. Обедня еще не отошла, и батюшка направился в церковь.
Ужас охватил монахов при виде отца Серафима: на лице его виднелась запекшаяся кровь, волосы были всклокочены, согбенный, он едва стоял, опираясь на посох. Все бросились к старцу и он рассказал о случившемся.
Сильно опечалились монастырские братия, а игумен решил тотчас дать знать властям, чтобы разыскать виновных. Но отец Серафим со слезами просил этого не делать.
— Не о наказании, а о спасении душ их надо позаботиться,— говорил он,— я простил их, теперь будем молиться о том, чтобы и Господь смилостивился над ними!
Силы покидали старца, на руках отнесли его в одну из монастырских келий и, сделав перевязку ран, уложили в постель.
Прошло несколько дней. Отцу Серафиму становилось легче, хотя он еще оставался в постели.
Приближался вечер. В келье было тихо; лампада едва освещала комнату.
В дверь постучали и кто-то произнес молитву.
— Аминь,— отвечал старец. Вошел монах.
— Там к тебе, отче, крестьяне пришли,— сказал он,— хотят тебя видеть. Я говорил, что ты болен, что нельзя тебя беспокоить, убиваются, плачут…
— Зови, зови их,— с живостью ответил старец.
Три крестьянина с трепетом вошли в келью. При виде отца Серафима они упали на колени, сквозь глухие рыдания слышалась их несвязная речь:
— Прости нас, отец наш, грешны, виноваты пред тобой и пред Богом, покарал нас Господь,— сгорели наши избы, только наши, из всего села; поняли мы, что это наказание Божие за грехи наши… нет нам прощенья, один ты можешь спасти нас. Прости, отец…
— Я давно простил вас,— раздался тихий голос отца Серафима— и Господь вас простит… Господи, благодарю Тебя, что Ты услышал молитву мою,— прошептал старец, и слезы умиления потекли по его впалым щекам.
Был первый день Нового года.
Погода стояла ясная, хотя зима в том году была снежная и суровая.
В Саров на праздник Рождества собралось много богомольцев.
Отец Серафим отстоял обедню в больничной церкви; по окончании службы он сам поставил свечи перед всеми иконами, обошел кругом престола и стал прощаться со всеми присутствовавшими иноками.
Братия с удивлением следила за отцом Серафимом,— раньше никогда он так не поступал.
— Мужайтесь, спасайтесь, братия, бодрствуйте,— говорил отец Серафим, обнимая и целуя иноков.— Не унывайте! Нынешний день нам венцы готовятся!
Простившись со всеми, отец Серафим вернулся в свою келью.
Келья старца помещалась рядом с кельей брата Павла. Брат Павел горячо любил отца Серафима и часто приходил помогать ему, так как у старца не было келейника.
И в этот день, заметив, что старец вернулся из церкви, брат Павел постучался к нему.
— Не надо ли печь затопить, отче? — спросил он.— Мороз сильный…
— Коли есть у тебя минуточка, будь добр, затопи,— отвечал отец Серафим.— Я и сам собирался топить, да что-то устал…
Брат Павел тотчас затопил печь и ушел в свою келью.
Тоненькая стенка разделяла келью отца Серафима от кельи брата Павла. Часто, работая в своей келье, брат Павел слышал, как отец Серафим поет священные песни.
Так и в тот день, работая у себя, брат Павел услышал голос отца Серафима.
«Воскресение Христово видевше»,— ясно донеслось до слуха брата Павла.
«Что это старец пасхальные песни поет?» — с удивлением думал инок.
«Светися, светися, Новый Иерусалиме»,— услышал через некоторое время брат Павел.
Когда пение смолкло, брат Павел услышал, что отец Серафим вышел из своей кельи. И через окно увидел его, идущего к тому месту, которое он давно избрал для своего погребения. Через некоторое время отец Серафим опять вернулся в келью и снова стал петь пасхальные песнопения.
Брат Павел заметил, что в этот день старец три раза ходил на свою будущую могилу.
Наступила ночь.
Все заснули в обители.
Павел работал еще долго и заснул около полуночи. Благовест к заутрене разбудил инока.
Брат Павел начал одеваться, как вдруг почувствовал запах гари.
«Отец Серафим ушел из кельи, не загасив свечу»,— промелькнуло в его голове.
Старец часто уходил в свою пустыньку и никогда не гасил свечи перед иконой в своей келье. Часто брат Павел предостерегал его, говоря, что опасно оставлять так огонь, что может произойти пожар.
— Пока я жив,— говорил отец Серафим,— пожара не будет. А кончина моя откроется пожаром.
Быстро накинув рясу, брат Павел побежал в келью старца.
В сенях запах гари усиливался. Брат Павел окликнул старца, но ответа не последовало.
— Или ушел, или спит,— решил инок.
Позвав нескольких человек братии, Павел попробовал открыть дверь в келью старца.
Но дверь была заперта. Тогда один послушник именем Аникита усиленным толчком сорвал ее со внутреннего крючка.
В келье было совсем темно, сильно пахло гарью. Около двери на лавке иноки нашли холщовые вещи, которые тлели, распространяя едкий запах.
Иноки бросились во двор, принесли оттуда снег и забросали тлеющие вещи. Самого старца они не заметили в темноте и решили, что он отдыхает.
Возвращаясь в свою келью после заутрени, брат Павел подумал наведаться к отцу Серафиму. Брат Павел и послушник Аникита вошли в его келью.
На дворе брезжило утро, и при слабом свете иноки еле различили фигуру старца. Тогда они принесли свечу и увидели его.
Отец Серафим стоял на коленях пред иконой Умиления Божией Матери. На нем был белый холщовый балахон, крест с распятием висел на груди, руки были сложены в крест. Свеча, горевшая перед иконой, давно погасла. От спадавшего нагара ее, вероятно, и произошел пожар…
Глаза старца были закрыты, тихая радость светилась на его лице.
Полагая, что старец заснул, братия стали осторожно будить его.
Ответа не последовало.
Отец Серафим окончил свою подвижническую жизнь.
Солнце клонилось к западу, монастырь погружался в тихий сон, умолкли голоса, опустел двор обители, иноки разошлись по кельям. Стемнело.
Вдруг поспешные шаги послышались во дворе; кто-то торопливо шел по направлению к келье старца Сисоя.
То был престарелый монах, отец ризничий. Дойдя до двери старца, он сотворил молитву и, услышав за дверью «аминь», торопливо вошел в келью,
В углу перед иконами у аналоя, на котором лежало раскрытое Евангелие, стоял старец Сисой. На вид ему было лет около семидесяти, длинная седая борода спускалась почти до пояса.
— Прости, отче, что помешал тебе, нарушил молитву,— начал вошедший,— у нас случилось несчастье.
— Говори, брат, в чем дело?..
— Два молодых инока горячо спорили между собой; брат Феофил оскорбил брата Павла и теперь Павел возгорелся местью. Только и говорит, только и твердит: «Я отомщу ему! До тех пор не успокоюсь, пока не отомщу ему за обиду». Страшно на него смотреть! Мы пробовали его уговаривать, убеждать — ничего не помогает, твердит свое.
— Пошли его теперь же сюда, ко мне,— сказал старец.
Отец ризничий вышел.
Прошло несколько минут и за дверью снова послышалась молитва,
— Аминь! — ответил старец. В келью вошел молодой инок. Лицо его было сурово и гневно, брови крепко сдвинуты, глаза горели недобрым огнем, стиснутые губы дрожали. Он был бледен как полотно.
Старец пристально посмотрел на вошедшего.
— Ты не простишь брата? — спросил он.
— Нет!..— отрывисто отвечал Павел,
— Хорошо,— продолжал старец,— мсти. Но всякое дело надо начинать с молитвой. Давай помолимся!..
Павел с недоумением посмотрел на старца и опустился вслед за ним на колени.
— Боже! — начал Сисой.— Уж мы больше на Тебя не надеемся; Ты не пекись о нас, не мсти за нас, за себя мы сами мстим…
Громкие рыдания прервали слова старца.
— Довольно! Довольно, отче! — молил Павел, с плачем бросаясь к ногам старца.— Понял я безумие мое, благодарю тебя, что научил! Все прощаю брату, да простит и мне Господь!
Ласково поднял Сисой склоненного юношу и обнял его.
— Верь мне, сын мой,— сказал он,— что всякий терпеливо сносящий обиды без труда спасается; а кто гневается на ближнего, тот все свои добродетели губит и делается рабом диавола.